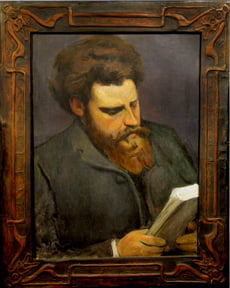ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОГ ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОГ ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОГ АВТОРСКИЕ СТРАНИЦЫ АВТОРСКИЕ СТРАНИЦЫ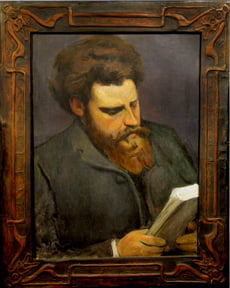 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ |
| |
ВОЛОШИНСКИЙ СЕНТЯБРЬ международный научно-творческий симпозиум |
Произведения участников Волошинского конкурса
» Волошинский конкурс 2013
номинация: «Когда любовь растопит шар земной?..»
|
| Положение о Волошинском конкурсе 2013 года |
|
Мы приветствуем Вас и желаем… (чтобы такого пожелать, кроме приятного чтения?)… не впадать в крайности от современного искусства, верить, что у искусства есть благородная и не всегда нам доступная в понимании цель. Или вы захотите, может быть, зарегистрироваться? Для чего?... Ну, чтобы не только получать удовольствие от чтения, но и выражать свои эмоции по поводу прочитанного. То есть, оставлять комментарии. Также Вы сможете подписаться на сообщения от администратора и получать информацию обо всех новостях и изменениях сайта «Волошинский сентябрь».
Прощание с Розой
Легкий белый пух с влажной холодной нежностью опускается в раскисшую муть улицы. Хлип-хлюп-хлябь — шаги. Кто-то неприкаянный медленно и безнадёжно плетется вдоль серых бетонных монументов февральского города. Месит ботинками подтаявший снег. Вслед за ним задумчиво, семеня не правильной походкой, опустив голову и припадая на заднюю левую лапу, бредет лохматый пёс неизвестной породы. Белый, с апельсиновыми пятнами и черными подпалинами вокруг глаз.
«Боже, если ты есть, ответь: отчего так печальна земля, почему такая тоска и пустота внутри и вокруг? Как холодно и враждебно пространство! И время так невыносимо жестоко и беспощадно ко всему живому и теплому. Во всём предсказуемость и неизбежность. Вот, хочешь, я предскажу Тебе мое будущее? Нет, не далёкое, а вот нынешнее, сегодняшнее, сиюминутное. Молчишь? Но я всё равно скажу. Сейчас я пройду еще шагов триста-четыреста и по дороге в продуктовом магазинчике куплю пачку сигарет и спички. Дам продавщице три рубля (это всё, что у меня есть) и она (дурёха!) даст мне сдачи как с пяти».
Он поправил взъерошенную от мокрого снега кроличью шапку и чуть прибавил шаг. Вот и магазинчик. С трудом открыл створку двери – пружина слишком жесткая и снег на пороге мешает. В зальчике пусто. Ни одного покупателя. Он повернул налево к «ликёро-водочному». Подошел к прилавку, за которым стояла плотная неопределенного возраста продавщица в белом халате серого цвета. Лица её он не рассмотрел, потому что не пытался.
— Пачку «Примы» и спички,— глухо сказал он.
Вытащил из кармана серенького пальтеца сложенную пополам трёшку, положил на черную пластиковую тарелку кассы и стал смотреть на руки продавщицы.
Она, молча, смахнула трояк в приоткрытый ящик стола, взяла с полки сигареты и сбоку из картонного ящика коробок спичек. Положила их на прилавок. Шире открыла ящик кассы и стала выдавать сдачу: три рубля, потом рубль и мелочь. Он спокойно собрал сдачу, положил в карман пальто, поблагодарил и пошел к выходу.
Шагнул на улицу. Снег всё также тихо падал крупными хлопьями, похожими на птичий пух. Пёс терпеливо сидел в сторонке под деревом, подняв острое ухо (второе не поднималось от рождения).
— Ну что, Хромушка, ждешь? Прости, старик, но не купил я тебе ничего. Подожди до вечера. Что-нибудь придумаем.
Пёс тоскливо посмотрел на пустые руки хозяина. Вздохнул: « Ну,— дескать,— что с тобой поделаешь!»— и тронулся вслед за ним.
«Что и требовалось доказать,— продолжил он свой внутренний разговор,— по-моему вышло. Что скажешь? Молчишь? Ты всегда молчишь. Ты хочешь спросить: почему я не вернул ей сдачу? Осуждаешь? Подумаешь — два рубля — велика сумма! Давай будем считать это Твоим подарком мне и Хрому. Ну, вот и ладушки. От тетки не убудет, а я себе куплю винца, а на остатние — косточек Хромушке. Тем более что знаю я Тебя — Ты, если сейчас что и дашь, так потом тут же что-нибудь отнимешь. Это у Тебя называется «гармоническим равновесием» и «высшей справедливостью».
— Ничего, Хромка, мы сейчас пойдем на рынок и в мясном ряду купим тебе у какой-нибудь Гали сладких косточек. Ты, что насчёт этого думаешь? Вижу — обрадовался.
Пес улыбнулся и захромал веселей. Они пошли по скользкому тротуару дальше. Нужно было у перекрёстка перейти на другую сторону улицы. Из под колёс проезжавших машин вылетал мокрый, грязный снег. Сквозь плотную зыбь облаков ровно и матово растекался дневной зимний свет. Эта ровность и равнодушие природы выматывали душу, вытягивали без того натянутые нервы.
«Дура бессмысленная!— сказал он, обращаясь непосредственно к природе,— все тебе нипочем. Души в тебе нет, иначе ты бы страдала вместе со мной и радовалась с Хромом. Ты — баба и, как они, нечувствительна к чужой боли и радости. Пусть бы уж была чёрная пустота вокруг, и я бы знал, что я один и нет никакой надежды. Мне надоели твои обольщения, твои вечные зори и закаты, после которых никогда ничего не происходит. Надоела твоя вечная ложь! Одни увертюры без продолжения. Хорошо, что у меня есть еще большая банка «сажи газовой». Погоди, дай мне дойти до мастерской».
Загорелся «зелёный». Они пересекли улицу и двинулись дальше. Прошли кондитерский магазин «Svajone»* (в переводе с литовского — мечта), где продавали не плохой двойной кофе с мягкими душистыми булочками, пахло свежей выпечкой, корицей и шоколадом и в другое время он обязательно бы в него зашёл, но… настрой не тот. Он сглотнул слюну. Вытащил сигареты и спички. Закурил.
Подле рынка стоял стеклянный павильон «Цветы». Он подошел и стал разглядывать: сначала свое отражение, потом само стекло и только после этого то, что было внутри.
«Она так любит эти нежности, лепестки, особенно розы, белые и черные. Зимой — больше черные. Они так идут к её бледной, гладкой коже, темным, почти чёрным большущим глазам, длинным и тонким пальцам рук, волнующим изгибам спины, бедер, плеч. Мне бы хотя бы малую часть тех чувств, которые она дарит цветам. Кто я для неё? Никому не известный художник, неудачник без образования и без будущего, депрессивный и надломленный. Зачем я ей?»
Он ясно увидел её гибкое сильное тело, бьющееся в судорогах любви в тисках его рук, колышущуюся в такт высокую молодую грудь, пушистую, пряную заросль густых, черных вьющихся волос, приоткрытые губы, оскал страсти и грудной звериный стон, полет и невесомость собственного тела,— он чуть не застонал в голос, но сдержался,— и потом — его постоянная нестерпимая ревность — ревновал её ко всему и ко всем. Он чувствовал, что не сможет удержать её. Она никогда не будет принадлежать ему полностью, и от этого ревновал и желал ее еще сильнее. Каждая близость с ней казалась ему последней, и он отдавался страсти с ненасытной жаждой приговорённого к смерти преступника. Казалось, что сердце не выдержит и лопнет от резких ударов крови. Каждая ночь — казнь, и постель — плаха, и они оба одновременно палачи и жертвы. Страсть — иссушающий жар и зной, дурманящая, сводящая с ума свежесть ее тела, вкус ее губ, аромат черной розы, мучительное и почти непереносимое наслаждение и сладкая опустошающая истома под утро, потеря сознания, прелестная смерть…
— Р-о-о-з-а-а-а! — прошептал он и звучание её имени обдало его жгучей волной на промозглом холоде улицы.
Он знал, что так продолжаться долго не может. Такая жестокая страсть не бывает долгой. Он не мог сосредоточиться, не мог ничем серьёзно заниматься. Она вытеснила всё и заполнила собой всё его существо. Но беда была в том, что и без неё он уже не мог.
Зайдя в павильон, он разглядывал, выбирал, нюхал и довел молоденькую девочку-продавца почти до истерики. Наконец, купил одну единственную розу и мысленно назвал её — «чёрная принцесса». Попросил плотнее укутать её в обёрточную бумагу, чтобы не замерзла, чем уже окончательно возмутил цветочницу, которая, однако, выполнила его просьбу, обиженно скривив ротик.
Они познакомились в художественном институте на вступительных экзаменах. В перерыве он увидел её. Она сидела в коридоре, на подоконнике. Пройти мимо неё было невозможно. Такого красивого лица он еще не встречал. Казалось, что его отлил из фарфора искуснейший кукольный мастер. Оно соединило в себе все совершенство семитских и славянских черт, но «южного» в нем было чуть больше. Он подошёл и они разговорились. Слава богу, она оказалась не глупой, пустой, холодной красоткой, каких он часто встречал.
Все в ней было живо: глаза, голос, движения, совершенно сложенного, тела. Он сразу понял, что пропал. Из-за таких женщин мужики бросают семьи, идут на преступления и самоубийство.
Они были молоды — ей 19, ему 21. Была ли это любовь? Они сами не смогли бы ответить на этот вопрос. Кто знает... Он страстно хотел ею обладать, а она просто позволила ему это.
Она жила на окраине в частном доме с мамой и сестрой. У них была лишняя комната и она предложила ему сделать в ней мастерскую. На что он, конечно, мгновенно согласился. Тут всё началось и продолжалось полгода, пока он не нашел себе мастерскую в городе. Они жили у него месяца полтора, но она, сначала раз в неделю, а потом все чаще стала уезжать к маме (так, по крайней мере, она говорила). Сегодня она должна была приехать.
«Мясо, -а ср. 1. Обиходное название мышц. 2.Часть туши убитых животных, употр. в пищу. 3. То же, что говядина. 4. Мякоть плодов, ягод (разг.) С мясом вырвать (разг.)»…
Как бы он хотел вырвать её из своего нутра, пусть «с мясом». Он проходил вдоль мясных прилавков. Вид и запах сырого мяса, разрубленные пополам туши — говядина, свинина, баранина — вот, где райское место для Хрома, его заветная мечта, земля обетованная, хорошо, что он остался на улице и не видит всего этого изобилия, он бы тут сошел с ума от всех этих «ароматов»,— мясА, напоминающие анатомические муляжи.
В детстве он любил рассматривать учебник анатомии. Его мама удивлялась и пугалась — откуда такой интерес у шестилетнего мальчика? Ничего удивительного в этом не было — разбирают же пацаны машинки и часы, чтобы посмотреть, что там внутри. Ему было интересно, как устроен человек. Различия в строении тела мужчины и женщины особенно не впечатляли: ну, положим, так вот выглядит женщина, а вот эдак — мужчина. Тем более, что без кожи и в разрезе они выглядели примерно одинаково. Сам себя он не относил ни к одному из видов. «Я еще маленький, а это взрослые. Они другие»,— говорил он себе.
Много позже, когда ему было семнадцать, соседка Лайма ( по-литовски laime – счастье), которая училась в медицинском пригласила его позаниматься анатомией в прозекторской при институте. Договорились о встрече. На следующий день Лайма ждала его у ворот. Выдала пакет. Объяснила, что в нём халат, шапочка, скальпель и резиновые перчатки. Они прошли от ворот по аллее к зданию института. Вошли в парадный и двинулись по длинному узкому коридору, по сторонам которого через равные промежутки видны были высокие двери, окрашенные белой масляной краской. Стекла в дверях были закрашены той же краской, так что не видно, что там происходит внутри. Их шаги нарушили тишину здания. По дороге они никого не встретили. Лайма сказала, что в это время тут практически никого не бывает. Коридор несколько раз делал резкие повороты, то влево — и тогда в окне был виден двор института, ярко освещенные утренним майским солнцем дорожки с рядами подстриженных кустов и глубокие синие витражные кусочки неба,— то вправо в глубину здания. В первом помещении, в которое они вошли, все стены от пола до потолка занимали застекленные шкафы. На полках стояли большие стеклянные банки с заспиртованными человеческими зародышами на разных этапах развития и органами: мозг, сердце, печень, почки и так далее. Он мысленно назвал этот кабинет «кунсткамерой». За «кунсткамерой» находилась гардеробная, где можно было переодеться. Стены и пол, покрытые белой керамической плиткой. Ряд, блестящих никелем, вешалок. Умывальник. «Чистилище, — он любил всему давать названия,— анатомический театр тоже начинается с вешалки». Они переоделись в белые халаты. Надели шапочки. Подошли к двери прозекторской, на которой могла бы висеть табличка — «Врата ада».
Зал прозекторской — большое круглое помещение. Полукруг стены напротив входа застеклен, так что на арене очень светло. Вдоль стен по кругу стоят металлические разделочные столы, в количестве тринадцати штук, но заняты они не все. Только на четырех из них лежали накрытые полиэтиленовой плёнкой тела. Воздух был насыщен незнакомыми для него запахами.
— А вот и наши покойнички,— весело сказала Лайма, подходя к ближнему столу. — Мы теперь вспоминаем о них с благодарностью,— сказала она, начиная снимать пленку. Он помог ей — свернул и положил на соседний стол. Не много волнуясь, повернулся к своему столу. На нем лежал труп старушки.
— Трупы лежат в ваннах с формалином,— деловито объясняла Лайма,— поэтому они усыхают и меняют цвет кожи.
Цвет, действительно, был желтовато-коричневый, наподобие южного загара. Над бабушкой уже кто-то поработал — кожа на груди и брюшной полости была препарирована и лежала сверху на теле кусками. Они сняли эти куски, открылась вскрытая грудная клетка. Были видны лёгкие, похожие на сине-фиолетовые птичьи крылья, трахея, напоминающая гофрированный шланг противогаза, сердце — темно-коричневый мешочек с темно-синими руслами вен, формой смахивающий на большую клубнику. Как обычно бывает при встрече со смертью — в его голову полезли банальные мысли:
«Вот, что остается от человека после смерти. Бедная старушка. Долго жила, наверное, кого-то любила, рожала детей. Почему же она оказалась здесь?»
И он спросил у Лаймы:
— А откуда берутся эти трупы?
Она ответила, что в основном из домов престарелых, если некому хоронить или неопознанных никем покойников, умерших в результате несчастных случаев, убийств или естественной смерти.
— Разве в домах престарелых умерших не хоронят за государственный счёт?— спросил он.
— Так обычно и происходит, но ведь надо учить студентов… Я точно не знаю всей процедуры,— она говорила, одновременно разрезая кожу старушечьего предплечья и посверкивая очками,— но, вероятно, старичков уговаривают подписать бумагу о том, что они согласны после своей смерти… для пользы науки… и так далее… Наверное, как-то поощряют — дополнительное питание или ещё что-нибудь… точнее не могу сказать. В конце концов, ведь их всё равно хоронят. Вот, смотри, желудок,— указала она на сморщенный, как сушёная груша, мешочек чуть ниже диафрагмы. Видишь эти белые проводки — это нервы, они проходят по всему телу и связаны со спинным и головным мозгом,— она переместилась ниже,— а вот матка,— показала она на паховую область, где он увидел похожий на желудок, только немного меньший по размеру и гладкий…
В окна прозекторской лился радостный майский свет. Липы хвастались своей новой молодой листвой. Стерильная медицинская вата облаков ярко светилась на бирюзовой сини неба. Институт стоял на высоком холме и сразу за ним начинался спуск, который заканчивался ближе к центру города — долиной реки Нерис, в древности её называли Вилией. Дальше открывался вид на другой берег — дома, костелы, дальние холмы на горизонте. Так странно было сочетание этой сверкающей обновленной природы, вечной зеленой жизни за окнами и тем, что происходило внутри.
Если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель мог заглянуть снаружи в окно, то он увидел бы двух молодых (ему семнадцать, ей двадцать) студентов медиков, склонившихся над потемневшим, развороченным трупом, лежащем на холодном металле стола. Девушка — высокая литовка, с большеватым ртом, не красавица, но и не страшная. Рыжевато-русые завитки выбиваются из-под шапочки, которая от света из окон кажется зеленовато-голубой. Деловито поблёскивают стекла очков:
— А вот матка…
Не знает бедная Лайма, что пройдёт каких-нибудь двадцать восемь лет, и она, уже, будучи опытным хирургом, почувствует противную тягучую боль, в том самом места, куда она теперь показывала своему подопечному. Боль будет день ото дня нарастать и придётся самой обращаться к коллегам врачам, и прозвучит страшный, как удар топора, диагноз. Будет казаться, что это мерзкое водяное животное, родственник скорпиона, поселилось у неё в животе и постепенно пожирает её изнутри, медленно и методично отрывает кусочки её плоти своими безобразными клешнями и съедает их. Осталось двадцать восемь — и эта последняя цифра, вдруг закачается и упадёт набок, — и будет непереносимая, постоянная, нечеловеческая боль, наркотический туман, пытка химиотерапии, и последний краткий предсмертный полёт и удар… и всё… Знак бесконечности.
Двигаясь вдоль рядов, он иногда останавливался, спрашивал цену и проходил дальше: «Да, Хром, мякоть-то кусается. Не по зубам. Обойдемся костями». На широких прилавках — рубленные куски млекопитающих — шеи, карбонад, вырезка, грудинка, голяшки, окорока. Свиная голова уставилась на него, прищурив один глазок, блаженно улыбаясь, высунув набок тёмно-фиолетовый язык и выставив вперед задорный, розовый пятак, как бы говоря:
— Не грусти, паренёк! Видишь, как меня разделали и то я ничего, не унываю. Бери меня. Не пожалеешь!
Но связываться с головой не хотелось — много мороки, да и денег на неё не хватит — и он купил суповых костей: «Сварю кулеш себе и Хромке».
Взяв мясной пакет в правую руку, левой прижимая к себе кулёчек, с томящейся в нём розой, он вышел на улицу. Пёс, увидев и обнюхав пакет, радостно завертел хвостом и заковылял рядом.
Снегопад ослабел. День начинал угасать. Пора было двигаться в сторону мастерской. По дороге он завернул в винный магазинчик и купил бутылку дешевого красного креплёного вина.
Мастерская его была в старой части города недалеко от рынка. Нужно было пройти через арку ворот во внутренний дворик, повернуть налево, войти в тёмный подъезд, спуститься на три ступеньки вниз в полуподвал. Дверь, обитая черным дерматином. Поискал и достал ключ. В темноте долго тыкал в скважину. Чертыхался. Пахло старым домом, плесенью, котами, проржавевшими трубами. Наконец, открыл. Нашарил клавишу выключателя. Маленькая прихожая, вернее, это была часть комнаты, отделенная самодельной перегородкой, осветилась желтым светом.
— Хром, заходи,— сказал он товарищу, терпеливо ждущему у дверей.- Только ноги вытирай,- пошутил он.
Но пёс отнёсся к предложению серьёзно и тщательно вытер все четыре лапы о коврик перед дверью, только хромую ногу основательно очистить не смог.
- Ну, ты даёшь!- вымолвил хозяин от удивления и развёл руками.
Он сразу почувствовал, что что-то не так. Вещей на вешалке стало, как будто, меньше и обувной ящик наполовину опустел. Положил пакеты на крышку обувного ящика. Снял и отряхнул от налипшего снега пальто и шапку. Он уже понял, что Она ушла. Прошёл в мастерскую и включил настольную лампу с абажуром, стоящую на круглом столе. Платяной шкаф был раскрыт и разорён. Ящики, где лежало её бельё, были выдвинуты и пусты. Обнажённые деревянные плечики сиротливо желтели между его вещами. На столе белела записка, написанная Её рукой. Он быстро пробежал её глазами. Немного подумав, разорвал на квадратные части. Смял и бросил в стеклянную пепельницу. Вернулся в прихожую. Взял из кармана пальто сигареты и спички. (Делал всё механически). Опустился на стул, стоящий у стола. Чиркнул спичкой и прикурил. Этой же спичкой поджёг с одного бока останки записки. Огнь медленно поедал мятые бумажки, остатки слов, таких не нужных теперь: « …ам вино…ольше …не мог…»,— превращая в черные засохшие лепестки розы.
Умом он понимал, что это всё равно, рано или поздно, случилось бы и хорошо, что не пришлось принимать участие в Её сборах, говорить слова, уговаривать остаться, обещать, выслушивать упрёки, томиться, провожать. Нужно было привыкать к новому состоянию — без Неё. Хром завозился на своей постилке в прихожей — напомнил о себе.
Он достал из пакета верхнюю кость и положил перед собакой.
— Ешь, Хромчик. Сегодня варить уже поздно.
Пёс с благодарностью посмотрел на хозяина и принялся грызть.
Вынул вино и поставил на стол. Открыл старенький холодильник. Положил в него пакет с костями. На столе стояла высокая узкая ваза с увядшей и высохшей предшественницей. Он вынул её и бросил в камин. Вылил воду в умывальник и набрал свежей. Стал разворачивать упакованную «чёрную принцессу».
«Ну, что не замёрзла? Сейчас я тебя раздену и будем справлять «поминки». Опять придётся разговаривать с собакой и цветком. С этим «товарищем» наверху бесполезно — всё равно он ничего не отвечает. Предоставил нам свободу, мол, доходите до всего сами. А зачем человеку свобода? Ему нужны — любовь и смысл. Без этого он любую свободу будет ощущать, как несчастье и одиночество. Ему нужны тепло и нежность другого человека»,— он думал и осторожно раскручивал хрустящие песочные листы бумаги. В унисон ему Хром расправлялся с костью.
Наконец, он освободил её и поставил в вазу.
«Она также прекрасна и горда, такие же холодные, острые шипы, сжигающая страсть и красота. Аромат предсмертной тоски…»
Коротким движением сорвал металлическую пробку с бутылки и сделал два больших глотка прямо из горлышка. Пробежав по пищеводу, жидкость пролилась внутрь, обожгла желудок.
«Да. Это отнюдь не «Бордо» и уж, тем более, не «Аи» и не «Вдова Клико»,— но стало как будто легче и теплее.
— Ну, что же, займёмся наследством,— сказал он вслух и сделал ещё один большой глоток.
Мастерская была разделена на две равные половины старинной китайской складной ширмой — бабушкино наследство — цветы, деревья и птицы: цапли, фазаны, цветы шиповника,— нежные переходы тонов, виртуозный рисунок, безупречная гармония композиции. За ширмой была рабочая часть — справа стоял высокий мольберт, слева у окна — наклонный стол для рисования, в углу — стеллаж с холстами. Холсты также стояли на полу, повернутые лицом к стене. На стенах последние рисунки — карандаш, уголь, сангина — и на всех Роза, её лицо, её обнажённое тело… Он в последний раз разглядывал такой, ещё близкий, но теперь навсегда уходящий образ. Он уже решил:
— Устроим аутодафе!
Срывал рисунки со стен и бросал их на пол. Потом сложил в одну кучу и отнёс к камину. Придвинул поближе кресло. Взял со стола вино и спички. Погасил настольную лампу. Захотелось полумрака. В окна через раскрытые гардины лился в мастерскую свет со двора. Во дворе светились соседские окна и фонарь. Сел в кресло, поставил бутылку на пол, чтобы была под рукой.
Спросил себя: «Зачем? Ведь это бессмысленно и глупо. Всё равно не удастся так легко изгнать Её из памяти и навсегда останется в ней выжженный, покрытый пеплом угол»,— и сам себе ответил.— «Пусть сгорит то, что умерло. На пепелище легче прорастать новому».
Взял верхний лист. Пробежал взглядом. Скомкал и, чиркнув коробком, поджёг с угла и бросил в камин. Подождал, пока разгорится и туда же отправил ещё несколько рисунков. Пламя от камина причудливыми отсветами побежало по стенам и потолку мастерской. По дивану, столу, по картинам, по, стоящему в углу за диваном, поясному анатомическому муляжу мужчины, большому прямоугольнику зеркала, висящему между окон. Осветило ширму. Встрепенулась цапля, удивлённо глядя своим круглым глазом. Вспорхнул над цветущим шиповником фазан. Ожили цветы. Бабочка шелкопряда полетела на огонь камина и стал явственней в воздухе розовый аромат.
Он взял в руки ещё один, где Она сидела обнажённой, опираясь на одну руку и страстно выгнув спину, бесстыдно выставляла вперёд, сводящую его с ума, грудь. Смотрящее на него прелестное лицо, блестящие тёмные глаза, ореол чёрных вьющихся волос, полуулыбка нежных и страстных губ. Минуту помедлив, он всё же бросил рисунок в огонь. Бумага стала желтеть с одного края и посередине, постепенно темнея и став совсем чёрной, вспыхнула. Пожираемая пламенем, в предсмертной истоме изогнулась Её спина, стройные ноги покоробились и обуглились, осветилась и исчезла грудь, почернело лицо и нежная светящаяся кожа молодой дьяволицы, превращаясь в пепел.
Он не проклинал Её. Нет. Не было ни ненависти, ни обиды. Было больно и пусто под сердцем, но он знал, что это со временем пройдёт. Глотнув из бутылки, он бросил в огонь, не глядя, оставшиеся рисунки и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. От камина тепло доходило до его колен, рук и лица — Её последнее тепло. Догорели и погасли слабеющие огоньки. Лишь по пепельным краям, где только что были язычки, пробегали дорожки искрящихся змеек. Кремация закончилась. Комнатой снова овладел сумрак.
Так просидел он около получаса в состоянии, которое временами накатывало на него — нечто вроде ступора. Внешний реальный мир отдалялся: притуплялся слух, тело теряло привычные ощущения и глаза смотрели сквозь видимые предметы, виделось невидимое. Вот и сейчас — стали проносится странные картины: толпы людей с зажжёнными факелами бежали по улицам города, стекаясь со всех сторон города к ратушной площади. Они что-то кричали, лица их были полны злобы и какого-то животного сладострастия. Он видел всё это сверху. Видел помост в центре площади, деревянный столб и то, как какие-то люди в чёрных одеждах подносили и складывали у столба вязанки с хворостом. Площадь уже была заполнена народом и вся освещена факелами, огни которых с высоты казались шевелящимся огненным змеем.
Люди в чёрном вывели на помост приговорённую к казни. Сорвали с неё длинную белую рубашку и приковали цепью к столбу. Толпа зашевелилась и зашумела. Вид обнажённого юного тела ещё больше распалил зрителей, и они закричали: «Ведьма! В огонь её! В костёр!»
Он узнал её сразу. Её тело он узнал бы из сотен тысяч других. Это была Она — его Роза, «Чёрная Принцесса».
Приготовления продолжились: стали подносить и обкладывать её ноги вязанками сухой соломы и хвороста. Монах иезуит выкрикивал обвинительный приговор. Когда он закончил и приложил крест к лицу преступницы, палач, взяв из руки помощника пылающий факел, поджёг костёр со всех сторон. Толпа застонала.
Дальше смотреть не было сил. Он усилием воли прекратил видение и открыл глаза. Встал и подошёл к окну. Двор был пуст. Мокрый тяжёлый снег. Кусок вечернего зимнего неба сплошь в плотных тёмно-серых облаках над черепичной крышей соседнего дома. Чёрно-синие птицы что-то искали в сугробах. Дотронулся до холодного гладкого прямоугольника, висящего на стене между окнами. Увидел себя. Свет из окна, проникавший в просвет между шторами, делил его лицо пополам.
«Вот так и моя жизнь разделилась на «до» и «после» Неё»,— подумалось ему. К этому примешивалось чувство того, что он совершил что-то бессмысленно жестокое и гнусное. Ещё днём у него возникла идея, которая тогда казалась ему оригинальной, но сейчас он не был в этом уверен. Больше того — после аутодафе — она казалась ему мерзкой.
Пройдя за ширму, в рабочую половину, он включил лампу с алюминиевым отражателем, какими пользуются фотографы. Постояв немного, стал разворачивать, стоявшие на полу холсты к себе лицом. На него глядели — сверкающие снежными вершинами, белые розы в круглой, как шар, стеклянной вазе; загородный дворец вельможи XIX века с фрагментом старой липовой аллеи, освещённые ярким летним солнцем; сад у Её дома и Она, сидящая на скамье в тени сирени, вся в жёлто-оранжевых солнечных пятнах и зеленовато-голубых тенях.
«Неужели я хотел всё это уничтожить? Замазать весь этот сверкающий, искрящийся, живой мир тёмной мёртвой чернотой? Оставить после себя прямоугольные и квадратные дыры? Нет. Пусть этот мир холоден, жесток, груб и безразличен, но, всё же, он так томительно прекрасен и так трагически необходим, и красота его так сладко ранит и ласкает сердце».
Он поискал и нашёл круглую большую жестяную банку с чёрной краской. Повертел её в руках… и засунул далеко-далеко в самый дальний угол мастерской за стеллажи. Разделся и лёг на холодный диван. Постель ещё сохраняла аромат Её тела.
Полоса света из окна. Роза на столе. Они попеременно вздыхают — собака и человек.
Может быть это любовь?
* * *
|
| Категория: «Когда любовь растопит шар земной?..»
|
| Просмотров: 87
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
произведения участников
конкурса 2013 года | все произведения
во всех номинациях 2013 года |
| номинации | | «При жизни быть не книгой, а тетрадкой…» [53] поэтическая номинация издательства «Воймега» | | «Я принял жизнь и этот дом как дар…» [195] поэтическая номинация журнала «Интерпоэзия» | | «Дверь отперта. Переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…» [60] проза: номинация журнала «Октябрь» | | «Когда любовь растопит шар земной?..» [108] проза: номинация журнала «Дружба народов» | | «ЖЗЛ, или Жизнь замечательных людей» [60] драматургия: номинация Международной театрально-драматургической программы «Премьера PRO» | | «Пьеса на свободную тему» [155] драматургия: номинация Международной театрально-драматургической программы «Премьера PRO» |
|
Сегодня
день рождения
| | вот, как только, так сразу отметим!
|
|