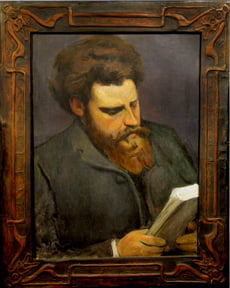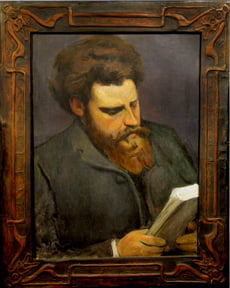Антон Понизовский. Обращение в слух. ИГ "Лениздат", 2013.
Роман Антона Понизовского «Обращение в слух» - это роман-событие. Текст автора-дебютанта говорит сам за себя и становится центром литературно-критической дискуссии вне всякой связи с премиальным процессом.
В центре повествования - спор о русском национальном характере, о смысле жизни, и, наконец, о бытии или небытии Бога.
Действующие лица как будто сошли со страниц романов Достоевского. Аспирант Федя - молодой человек, который, совсем как князь Мышкин, большую часть жизни провел в Швейцарии, и представляет себе Россию только по книгам. Дмитрий Белявский - гуманитарий неопределенного профиля, который еще в далекие советские времена занимался творчеством Достоевского. Плюс два «зрителя» - жена Белявского Анна и Леля, знакомая Феди. Волею судьбы герои книги оказались в замкнутом пространстве, и коротают время, обсуждая «проклятые» вопросы русской литературы. По сюжету Федя является аспирантом некоего доктора Хааса, который разработал сугубо научный метод познания национального менталитета: «Чтобы понять национальный характер — не важно, русский, турецкий или швейцарский — т. е. именно чтобы понять «народную душу», «загадку народной души» — нужно было (по Хаасу) выслушать les recits libres («свободные повествования») подлинных «обладателей» или «носителей» этой самой «души» <…> Главное — с точки зрения д-ра Хааса — следовало организовать интервью таким образом, чтобы повествование (le recit) от начала и до конца оставалось «свободным» (libre)».
«Свободные» и вполне реальные истории, записанные самим Антоном Понизовским, расшифровывают и комментируют православный христианин Федя и атеист Дмитрий Белявский, не выдуманы.
В тексте говорят лицом друг к другу те, кто в реальных условиях никогда не доводят диалог до конца. Их полярные идеи, точнее целые комплекс идей, сталкиваются в лабораторно-чистых условиях. Это в некотором роде очень честный спор, в котором оба участника вполне по-джентельменски не переходят на личности, не применяют запрещенных уловок, всегда договаривают свою мысль до конца и даже иногда слышат друг друга.
«Обращение в слух» - это роман-спор, вызывающий споры. Что перед нами: подборка рассказов из жизни беднейших слоев населения, ценная своей информативной частью, или набор душещипательных историй, вставленных в жесткую идеологическую рамку? Графомания? Дурная стилизация? Недурная стилизация? Или живая форма современного романа «о самом главном»?
Вадим Левенталь высоко оценил роман в его части «нон-фикшн», но отказал ему в праве называться художественным произведением, полагая что «этот, извините, дискурс <…> деконструирован Сорокиным», и «художественные условности, которые работали 200 лет назад, сейчас уже не работают», а значит, «текст не опознается как художественный». Алла Латынина, напротив, полагает, что неожиданный успех романа Понизовского свидетельствует о том, что границы художественности вмещают и идеологический дискурс, что «мы готовы переварить роман идей».
Понизовский, действительно, оживляет форму идеологического романа XIX века. «Обращение в слух» - это, действительно, роман идей, точнее только одна часть этой формы классического русского романа XIX века. Перед нами всего лишь спор современных Алеши и Ивана Карамазовых, развернутый на 500 страниц, и ничего, кроме этого. И, оказывается, что этот спор страшно интересен! Не «актуален» не «динамичен», а именно интересен. В нем нет ничего от «бестселлера»: ни закрученной интриги, ни политических прокламаций, хотя разговор главных героев то и дело съезжает на вопрос о роли государства в распространении мирового зла. Всего лишь обмен репликами заставляет следить за развитием мысли с таким же напряженным вниманием, с каким можно следить за перипетиями динамичного сюжета.
Антон Понизовский обладает редким умением улавливать обертона современной речи, не сводя ее целиком к сленгу, не просто насыщая текст лексическим приметами времени, но создавая образ речи начала XXI века.
Несмотря на подчеркнутую старомодность некоторых фраз, явно стилизованных «под Достоевского» («А осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться к вам с разговором приличным?» и т.д.), язык романа Понизовского современен. Цитаты и псевдоцитаты из Достоевского, с одной стороны, подчеркивают условность повествования, с другой – отражают цитатность мышления, свойственную человеку эпохи постмодернизма.
Как справедливо пишет Виталий Каплан «Антон Понизовский <…> доказывает своим романом, что <…> говорить о русской душе можно современным языком, не впадая в слюнявый идиотизм». В этом тексте не чувствуется никаких стилистических швов между медлительным языком XIX века, гуманитарным «культурологическим» жаргоном, простонародной речью и речью тех, для кого русский язык не является родным. Самые смелые стилистические «стыки» романа не производят впечатления стилизации, а представляют собой живую речь, абсолютно естественно передающую актуальные смыслы. Были нарекания, почему, дескать, простые люди рассказывают свои истории без мата? Но неужели современный человек, которые рассказывает историю своей жизни «под запись» незнакомому человеку, совсем не способен обойтись без бранных слов?
Для Понизовского, конечно, важнее, не то, как говорят, а о чем говорят и кто говорит. С первых страниц очевидно, что именно Федя, является носителем авторского образа мыслей. Федя – христианин, и он мыслит и говорит так, как будто его мировоззренческая позиция – единственно возможная, у него нет в сознании внутреннего «чувства оппонента», он не предполагает возможного несогласия, не верит, что можно воспринимать жизнь совсем в иных координатах, чем он. И, может быть, потому, что он не вполне осознает абсолютной несовместимости позиций религиозного и нерелигиозного сознания, в нем нет не только чувства оппонента, но и «чувства врага» (первое так легко переходит во второе!). Кроме того, Федя, а вместе с ним и автор романа убеждены, что любая ситуация, как бы ужасна она не была, может быть объяснена в свете евангельской истины.
Понизовский рискует превратить своего героя в героя-резонера, но этого не происходит потому, что Федору противостоит необыкновенно сильный оппонент, с которым ходульный герой просто не смог бы справится.
Белявский – это, безусловно, антигерой, однако обаяния его велико. Он вызывает симпатию, несмотря на явную окарикатуренность. Значит, окарикатурен он не так уж сильно. В его комментариях есть не только убедительность личного опыта, но и своеобразная красота. Пожалуй, самый сильный эффект производит первый развернутый комментарий Белявского. Ну что можно сказать по поводу незамысловатой истории о том, как незаконнорожденная девочка выросла в детском доме, как она ухаживала перед смертью за своей мамой, которая хоть и не воспитывала ее, но все же «родная кровь»? Кажется, последние, о чем тут можно говорить, так это о том, как в древнем Риме было принято называть ребенка, родившегося после смерти отца. Эти «интеллигентские камлания» одновременно отталкивают и завораживают. Сопротивляется обаянию его логики очень сложно, хотя понятно сразу, что его позиция не близка авторской. Но удивительно, с каким изяществом воссоздает Понизовский этот чуждый для него образ мысли.
В речах Белявского много скрытых и явных цитат, которые роднят его с Иваном Карамазовым. Есть у него и свои замученные младенцы (и гораздо более ужасные, чем у Достоевского), и свое «почтительное возвращение билета»: «Что же: чистые, вежливые, и порядочные, и ответственные — это, значит, «земное царство», а пьянь и срань — «небесное», что ли, так?! Тогда не надо небесного никакого! Я вам говорю, можете сообщить по инстанции: царства небесного мне — не надо! И никакого — не надо!».
Так же, как Федя близок к образу героя-резонера, Белявский проходит в опасной близости от пародии на героя Достоевского, но этого все-таки не происходит, потому что Понизовский улавливает и транслирует на современный материал не форму, но самую суть бунта Ивана Карамазова, ту идею, то чувство, которое этот бунт порождает. Автор роман видит, что это чувство живо, реально, актуально и сегодня, может быть, еще больше, чем прежде. Интерес Белявского к фигуре Достоевского и ко всей той проблематике, которая обычно поднимается в связи с его творчеством, далек от холодноватого академического интереса гуманитария широкого профиля. Его внимание к Достоевскому, которое и подтолкнуло чету Белявских присоединиться к Федору в его научных штудиях, - это пристальное внимание человека к источнику острой боли. Своей боли. Это боль оскорбленного сердца и ума. Белявского оскорбляет размах страдания, который он видит в современной России, бессмысленность этого страдания и его неэстетичность. Он выступает в роли циника, но это цинизм человека, который никак иначе не может справиться с чувством собственной вины. Его цинизм – защитная реакция, помогающая снять с себя непосильную ответственность.
Роман «Обращение в слух» провоцирует на сравнение его автора с Достоевским. Невыгодная позиция для дебютанта. Мало кто может всерьез претендовать на сравнение с классиком. Понизовский, конечно, не Достоевский. Герои Достоевского предстают перед читателем в многомерности не только интеллектуального, но и духовного облика. Герои Понизовского не имеют личного измерения, им далеко до той полноты бытия, которая отличает героев русского классического романа идей. Как пишет Бахтин, идея для Достоевского может предстать только в виде личности. Невозможно оторвать содержание разоблачающих речей Ивана Карамазова от его собственной духовной катастрофы: человек, который не принимает «мира Божьего» за то, что в нем страдает невинный, сам является источником зла. В романе Понизовского герой предстает только как голос, произносящий «символ веры». Этот голос имеет индивидуальный тембр, но не более.
Триумфом красноречия Белявского стала его «Разоблачение Достоевского». Литературная форма этого приема, конечно, связана с романом набоковского героя Годунова-Чердынцева о Чернышевском, а содержание его (разоблачение «нечистого» пристрастия Достоевского к страдающим детишкам) вполне откровенно отсылает к набоковской же «Лолите». Разница в том, что герой Набокова ниспровергает Чернышевского - мнимого кумира некоторых слоев интеллигенции, а Понизовский с огромным мастерством и иезуитским изяществом растаптывает, ну, если, не святыню собственной души, то уж точно, источник своего писательского вдохновения. Низложение Достоевского в изложении Понизовского выглядит настолько убедительно, что хочется сразу начать защищать Достоевского то ли от Белявского, то ли от самого Фрейда, то ли от самого автора романа. Но, конечно, Достоевский в защите не нуждается. Важнее понять «логику обвинения». Белявский уверяет, что именно Достоевский является автором идеи о народе-богоносце. Показав глубоко личные и весьма неэстетичные истоки этой идеи, Белявский полагает, что уничтожил и саму идею, и поставил точку в этой истории. Но его амбиции простираются еще дальше. Речь идет не только о природе «жестокого таланта» Достоевского, и не только об изъянах русского национального характера. Белявский ведет атаку на определенный тип религиозности, ярким представителем которой является Достоевский как личность и герои Достоевского. Центром атаки становится идея греха, возможность отпущения грехов - самая мучительная, самая непереносимая для богоборческого сознания идея. Грех будет прощен, если попросить прощения, а именно этого и не может сделать гордая душа.
Деконструируя миф о народе-богоносце, созданный Достоевским, Белявский редуцирует все переживания его героев и предполагаемые мысли и чувства самого Достоевского до уровня эротических переживаний. Он пересказывает сюжет книг Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», стилизуя их под описание эротических переживаний: Язык описания моделирует реальность. Любовь - многозначное слово. Оно может быть вписано в разный контекст. Белявский выстраивает жесткую лексическую и смысловую цепочку: любовь – наслаждение – сладострастие: «В девятнадцатом веке, в каких-нибудь шестидесятых-семидесятых годах, не в ходу было слово «эротика», «эротичность». Не говоря уже «сексуальность». Использовались другие слова — «наслаждение» и, буквальнее — «сладострастие»» и еще «Чего ж он желает, наш любитель народа, интеллигентный наш господин? «Интеллигентный господин сечет собственную дочку, младенца семи лет, розгами… <…> В «Карамазовых» дается точное время: пять-десять минут. Куда прозрачнее?.. А вообще, и чего тут догадываться, о чем? Автор сам говорит однозначно: «до сладострастия, до буквального сладострастия». Современным языком это называется «сексуальное наслаждение». «Чаще-садче»…
Между братьями Карамазовыми происходит при этом чудный диалог: «— Мучаю я тебя, Алешка». — Дмитрий Всеволодович прочитал усеченно «Алешк». — «Мучаю я тебя, Алешк, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.
— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша».
Не вопрос! Главное, автор тоже хочет еще!»
Для того чтобы хотя бы заикнуться о христианских ценностях после уничтожающих слов Белявского нужно немалое мужество не только герою, но и автору романа. Хотя центральный пункт разногласий вполне очевиден: если Бог есть, то все, о чем так талантливо, так «сладострастно» повествует Белявский – это «личный ад Достоевского, его болезнь, сексуальность, враждебность к отцу», который он должен был пройти, что «совершить свой писательский подвиг: в таких же, как сам он, страдающих и озлобленных, увидеть божественный образ, божественную любовь; чтобы весь Божий народ, страдающий и озлобленный, суметь увидеть в реальности как народ-богоносец!» а если Бога нет, то это «нехватка цинка», которая, по мысли Белявского и была причиной болезненных припадков великого писателя.
Понизовский доводит спор «русских мальчиков» до самого главного – до точки возвращения к аксиомам: ««Вы сводите к патологии <…> веру в Бога вы подчиняете эпилепсии, <…>почему не наоборот? <…> вы утверждаете эти вещи как базовые, но это — ваш выбор!» Если Бог есть, то страдания людей не бессмысленны, если Бога нет, то все позволено, а страдание – бессмысленно, а значит оскорбительно для человеческого сердца. «Бога нет» - устало говорит Белявский, но и он взыскует если не высшего смысла, то хотя бы какого-то объяснения.
Понятно, что в этом споре Понизовский на стороне Феди Федора Михайловича. Но его способность обратится против себя, надсмеяться над тем, что самому дорого и близко, пугает и озадачивает. «А вдруг для него, для автора «Обращения в слух», все, о чем говорилось выше, — всего лишь игра?» - резонно спрашивает Карен Степанян. «Не герой же, в самом деле, написал это эссе. Само его наличие в тексте романа, не слишком хорошо мотивированное внешними событиями, заставляет задуматься о многообразии литературных пристрастий автора» - замечает Алла Латынина.
Нельзя так талантливо изобразить гнев, обиду, и неприятие, ни в чем не сочувствуя тем обвинениям, ни в чем не соглашаясь с тем «диагнозом», который ставит Белявский Достоевскому. В одной претензии, как мне кажется, Понизовский практически совпадает со своим героем Белявским: Достоевский, как он полагает, не смог изобразить человека из простого народа, он проехал мимо него на «лихой птице-тройке», ограничился утопическим идеалом.
«—кто конкретно у вас «богоносец»?
— Мы не можем сказать про конкретного человека «вот он», «вот этот», только про самого Христа; никто в отдельности, но все вместе…
— Вы всё сказали, — развел руками Белявский. — Мне нечего даже добавить. «Никто конкретно». Вообще то и се, и божественная любовь, и бла-бла, но — ни-кто кон-крет-но!»
Рискну предположить, что замысел Понизовского состоит в том, чтобы исправить эту «ошибку», «дописать» Достоевского. Не случайно сразу после «разоблачения Достоевского», на которое ведь Федор, в сущности, ничего не возразил, следует сразу несколько рассказов, обозначенных именами рассказчиков, которые никак не прокомментированы. Это, по замыслу Понизовского, и есть ответ Белявскому.
Алла Латынина отметила любопытный «перекос» в критической рецепции романа: хотя большинство критиков полагает, что материал, собранный и записанный Понизовским, гораздо интереснее, чем комментарий героев, о самих нарративах сказано очень мало: «утверждая, что эти «нарративы» — самое ценное, что есть в романе, критики тем не менее анализируют споры вымышленных героев. <…> Но никто — совершенно никто — не взялся рассуждать о самих нарративах». Нельзя не согласиться с Аллой Латыниной и в том, что сомнительна и методика «научного исследования»: ««Столь неопределенная субстанция, как «русская душа», не может быть предметом полевых исследований, и уж во всяком случае душа эта гораздо полнее отразилась в национальной культуре, в литературе, в миллионах письменных источников, чем в «свободных нарративах» «простых» людей»». Есть и другие вопросы. По какому принципу тексты отбирались? Насколько они репрезентативны? Подвергались ли они редактуре?
Но, как бы то ни было, эти рассказы имеют ценность не только как антропологический материал, но и как факт художественного высказывания. Это очень талантливые рассказы. Очень интересные истории. Очень похожие ситуации. Но их последовательность не кажется однообразным набором фактом. Понизовский тщательно продумал, в каком порядке давать их читателю. Впрочем, о содержании «нарративов» так хорошо сказал автор романа устами своих героев, что добавить к его/их словам практически нечего. Люди, истории которых записал Понизовский, рассказывают о боли. Они рассказывают о том, что человек может пережить гораздо больше, чем мы думаем. Это те самые люди, мимо которых, по мнению Белявского, пронеслась птица-тройка Достоевского. Вот же они, эти самые люди, вот он, народ-богоносец, страдающий, пьющий, униженный, искалеченный, вот они лица, приметы, имена… Теперь они взяты крупным планом, чтобы дать им возможность рассказать не только о себе, но и о реальности рая: «— Меня поражает, — продолжил Федя, <…> насколько большинство из рассказчиков далеки — не только от мысли о самоубийстве, но даже и от уныния. Почти все они прожили жизнь в нереально тяжелых условиях… <…> Вы ругаете их, презираете, называете «быдлом» — а какое у них терпение и какой стержень, несмотря ни на что! Не все, но большинство говорит «Да», «Да», «Да».
Я заметил, что так называемые объективные обстоятельства — ни при чем. Все зависит только от человека. Один человек, как завод, все хорошее перерабатывает в плохое — а другой человек, наоборот, самый ужас кромешный каким-то образом перерабатывает в хорошее. В картине мира, которую видит Понизовский, страдание составляют подлинное содержание жизни. Оказывается, есть «понятия, которые в древности были синонимами, а по мере развития цивилизации разделились. <…> И в древнеславянском языке слово «труд» означает «страдание». «Видишь труд мой елик» значит «видишь, как я страдаю?». Собственно, и наоборот: «полевая страда»… <…>боль есть труд». Это в картине мира, которую рисует Понизовский, и есть подлинное содержание жизни. Именно это – труд в обоих смыслах слова - и ничто иное - ее норма.
О смысле страдания и спорят герои романа. Белявский ищет виноватого: государство, русский национальный характер, но, по сути дела, главный подозреваемый в его разбирательствах – это сами жертвы. Как и Иван Карамазов, он боится признать виновным себя, признать себя соучастником зла. В его картине мира нет места Богу. И ему просто некому почтительно возвратить билет. Но ему необходимо достойное объяснение того, что происходит. Ему необходима аппеляция к смыслу, в этом, как мне кажется и кроется обаяние этого героя. Страдания, особенно страдания физические, боль, с точки зрения Белявского превращают человека в животное. И он делает ужасный вывод – с этим животным уже нельзя разговаривать по-человечески! Боли не место в цивилизованном мире, а потому она выпадает из этого самого мира вместе с теми, кто ею охвачен: страдающий виновен в том, что он мучается. Тот, кто горит в аду, достоин адских мук. По сути дела Белявский, мучается вопросом теодицеи, но в его секулярном варианте – в ситуации отсутствия идеи о Боге.
Для Белявского человек уподобляется в боли животному. Для Феди – Богу, распятому на кресте. Конечно, сам Федя еще не имеет почти никакого жизненного опыта, тем более опыта страдания, физической боли. Поэтому он впадает в соблазн оправдать страдание, эстетизируя его: боль, особенно чужую, можно терпеть, потому что боль – прекрасный спектакль гениального драматурга. «В каждой жизни — своя собственная красота, в т. ч. трагическая красота… — думал Федя уже поувереннее; а точнее, ему само думалось — может быть, приходило на ум что-то слышанное или читанное… — А страдание? <…> страдание — просто краска в общей картине… — возобновилось успокоительное бормотание. — Боль — нота в симфонии… Боль сама по себе не реальна…
Все необходимо для цельности образа. Главное — не анализ, и не попытки понять, а цельность и красота образа!..»
Это самое слабое звено в рассуждениях Феди сразу видит его оппонент. Видит его, конечно и Понизовский и очень быстро позволяет своему герою преодолеть неразвитость собственной души: знание о сострадании в отсутствии самого сострадания.
Отсутствие душевной чуткости в словах Феди компенсируется остротой мысли. Для того, чтобы разглядеть в рассказ тех людей, записи которых они слушают, возможность Рая, нужно необыкновенное напряжение ума и души. Федя не просто отрицает «дискурс» своего оппонента, но идет на шаг дальше, видит смысл и надежду там, где после разоблачительных речей Белявского ничего живого увидеть, кажется, невозможно при всем желании. Если Белявский ставит «окончательный диагноз» - инфантилизм и говорит, что это ключ ко всей нашей истории, то Федор задается вопросом, что этот ключ открывает? «Вечный» вопрос: для чего русский человек пьет? Белявский утверждает: «чтобы сдохнуть». Федор утверждает: русский человек, как и всякий человек пьет, чтобы утолить тоску по вину, которое в Таинстве Причастия превращается в Кровь Христову. Как тут не вспомнить историю библейского Ноя, который первый употребил этот дар неправильно, но осужден был не он, а его сын Хам, осмеявший наготу отца. Мысли Феди о судьбах России пафосны, иногда намеренно наивны, но и умны тоже, они не уступает Белявскому в блеске изложения, и превосходит его оригинальности мысли.
Однако прав, Карен Степанян, когда пишет о том, что идеи Феди красивы, но не проверены его судьбой: «Убежденность князя Мышкина в том, что, если “хорошо поговорить” с людьми, они сразу все поймут, перестанут грешить и станут любить друг друга, “срабатывает” в Швейцарии, в случае с бедняжкой Мари и ее преследователями, но в России все оказывается намного сложнее, князь говорит все хуже и в конце концов замолкает навсегда. “Что вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России” — предупреждает (якобы имея в виду лишь одежду) внимательного читателя на первой же странице Достоевский. Выдержали бы испытание Россией идеи Федора? Этот вопрос, судя по всему, находится за пределами интересов автора “Обращения в слух”». Князь Мышкин, который «обратился в слух», окончательно сходит с ума, фактически гибнет, не вынеся страданий окружающих, не вынеся той концентрации зла, которая встречает его в столице богохранимой нашей страны. Федя не гибнет, но совсем наоборот, находит свою любовь. Он вполне счастлив, а потому как бы не совсем типичен для мира классического русского романа идей. Но и Белявский – этот современный Иван Карамазов, тоже остается в здравом уме, в отличие от своего литературного прототипа.
Федор – герой, который вызывает много вопросов. Он нарочито инфантилен, лишен узнаваемых личностных черт. Инфантильность книжного мальчика Феди – это значимая черта его образа. Ведь любой человек, который берется рассуждать о таких запредельных вещах, как смысл и оправдание страдания, каждый, независимо от жизненного опыта, будет выгладить и инфантильным, и книжным, и бестактным. Никто не имеет права об этом рассуждать, а значит голос Феди, человека, который знает Россию по книгам и хорошо разбирается в догматических вопросах, подойдет для этой роли не хуже, чем любой другой.
В лице Феди и Белявского сталкиваются пафос и скепсис. В словесных поединках подобного рода обычно побеждает скепсис. Но в споре между Федором и Белявским «Федор вроде бы оказывается победителем именно в словесной дуэли с Белявскими, объясняет глубинный смысл человеческих унижений и страданий». (К. Степанян), или «побеждает Белявский. Потому что вопросы: в чем мы живем, почему мы столько пьем, почему мы принимаем насилие как должное? — это все существенные вопросы. <…> Белявский говорит о реальных проблемах общества — Федя переводит их в религиозно-философский план» (Алла Латынина). Читатель свободен, находясь «внутри» романа, не согласиться с авторской оценкой героев.
Виталий Каплан интерпретирует возможность двойственного прочтения финала романа как аналог православного отношения к чуду: «Когда Господь творит чудеса — Он не припирает человека к стенке, а всегда оставляет ему некий зазор, возможность не поверить, не принять, объяснить случившееся как-то иначе. <…> Так и в романе Понизовского: то понимание, к которому уже после всех дискуссий с Белявскими приходит Федя, вовсе не общезначимо. Принять его, не будучи христианином, нелегко, если вообще возможно». Можно сказать чуть менее громко: отношение читателя к финалу романа, да и к роману в целом похоже на отношение к проповеди, которая, являясь древним и почтенным жанром словесного творчества, может быть написана прекрасным языком (и текст Понизовского именно такой), может касаться актуальных проблем современности, в том числе социальных и политических (как и Федор с Белявским), она может дать пищу для размышления читателю любого мировоззрения, но принять или не принять вывод проповеди, который всегда один и тот же – о «реальности рая», воспринимающая сторона свободна исходя не из логики аргументов, а подчиняясь велениям собственной совести.
Антон Понизовский написал роман-проповедь. Роман, в котором автор ставит перед собой грандиозную задачу: увидеть современность со всем ее цинизмом и уродством в свете евангельской истины, заявить, что только образ страдающего Бога может дать смысл и оправдания ежедневной трагедии человека, которые вне христианских представлений унизительно бессмысленны и отвратительны.
Эта проповедь «произнесена» в уверенности, что на все жгучие вопросы современности ответ уже был дан 2000 лет назад, что сегодня, как и во время Достоевского, нельзя решить ни один мало-мальски серьезный вопрос, не договорив до конца свои основания: кто твой Бог и каким ты видишь человека. .
|