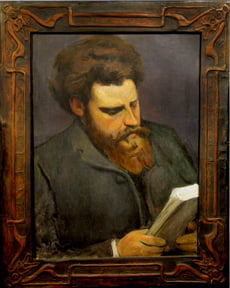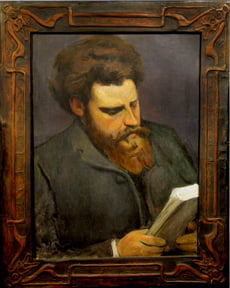Игорь Клех «Охота на фазана» (семь повестей и рассказ). – М.: ЗАО МК-Периодика, 2002. – 334 с.
Проза Игоря Клеха, по-видимому, не пользуется особой популярностью у читателей одной из библиотек Москвы – в фойе этого почтенного учреждения я подобрала выпущенную в 2002 году книгу «Охота на фазана», обклеенную бумажками с трогательными надписями: «Дорогой друг! Эта книга не потеряна… по всему миру люди оставляют свои книги в общественных местах, чтобы другие тоже смогли их прочесть… возможно, на твоей книжной полке есть книги, которые ты захочешь «отпустить».
«Вольноотпущенница» Игоря Клеха заинтересовала меня прежде всего тем, что первые же страницы, строки, даже первое слово – название повести «Диглоссия», – всё выдаёт автора-филолога. Чего он, впрочем, и не скрывает: все произведения в той или иной степени автобиографичны.
Действительно, Игорь Клех, как можно узнать из Интернета, – выпускник филологического факультета Львовского университета. О том же – о филологии и постмодернизме, активно использующем или впрямую цитирующем предшественников, – заявлено в названиях и остальных повестей, например, «Поминки по Каллимаху», «Хутор во Вселенной», «Зимания. Герма». Правда, ни одно из произведений сборника не называется «Охота на фазана», но в аннотации на этот счёт имеется разъяснение: «Название её (книги) подразумевает высле-живание и преследование некого «гения искусства прозы» – который всегда где-то рядом, но или сливается с фоном, или прячется за пределами видимой части спектра».
Что ж, примем правила игры (вполне постмодернистский приём!) и попытаемся разобраться, действительно ли расположение повестей и их содержание соотносимы с цветами радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», то есть красный, оранжевый, жёлтый… и так далее. Главное же, попробуем найти и ухватить за хвост фазана. А вдруг нам как новичкам подвалит охотничье везенье?
«Диглоссия» – буквально «двуязычие» – обозначает владение разными языками и попеременное их использование в зависимости от ситуации. В повести о детстве Игорь Клех говорит сам с собой и о себе на два голоса. Он и мальчик, и взрослый одновременно. Он попеременно то здесь, сегодня, с нами, то там – в пятидесятых. В конце повести «диглоссия» переходит в «глоссалию» – бессмыслицу, бормотание, младенческий лепет без запятых, что уже не в силах удержать ускользающий, погружающийся в глубину памяти смысл: «В последний раз я задерживаю дыхание и ныряю с открытыми глазами в память детства…»
Нам не составит особого труда привязать повесть «Диглоссия» к слову «каждый» – все были детьми и каждый продолжает носить в себе детство. Оно окрашено в красный – цвет эротики. Автор признаётся в этом сразу, на второй странице повести: «Я не хочу писать об эротике, но не вижу способа не писать о ней…» и здесь же сравнивает детство с мчащимся на красное «разъярённым быком, рвущим изнутри лопатки наших пиджаков». На этот цвет намекает и любопытная, несколько тошнотворная метафора: «бледные и странные, будто водоросли, растения, похожие на отваренные петушиные гребни» (очевидно, бывшие красными до того, как их отварили). Однако в красный цвет властно врывается мощная жёлтая струя: герой-рассказчик в детстве «напоил их сына мочой», а его маленькая подружка Галя «хотела научиться… мочиться стоя, по-мальчишечьи, беда только, что ей приходилось для этого неестественно широко расставлять ноги». Что ж, мы не вправе отказать автору в логике: жёлтый цвет не за горами, а пока что – оранжевый, «охотник».
Вторая повесть «Поминки по Каллимаху» и впрямь – охотничья. Но для начала отметим, что повести выстроены в ряд, похоже, не только по цветам радуги, но и согласно возрасту главного героя. Филипп-Каллимах Буонаккорси, поэт, молод и въезжает через Галицкую браму (ворота) во Львов, город студенческой юности автора, в сравнительно молодом столетии – пятнадцатом от Рождества Христова. Эта повесть наименее автобиографична, хотя автор не без изящества вплетает в описание городского быта свою фамилию: «Клехи приводили сюда (в баню) под пение «De profundis» мыться своих школяров…» (клехами в средневековой Польше называли ксёндзов, а также учителей приходской школы, органистов и т. д.) и не отказывает себе в удовольствии вполне постмодернистски перемежать средневековые пласты с литературоведческими измышлениями: «Можно ли построить сюжет на том, как, безо всяких Воландов, студентке на осенних работах отрезало картофелеуборочным комбайном голову?» Но авторские отступления вторичны и не обязательны. Сюжет движется Каллимахом – тридцатидвухлетним охотником за любовью, рифмами, судьбой, смыслом жизни, который он пытается обрести в богословских спорах с архиепископом, своим другом и покровителем. Цвет повести, несомненно, оранжевый. Цвет осенних листьев и волос шинкарки Фаниолы – «роскошной рыжухи, летуньи, прелестницы», чьей отравленной «ржавой стрелой» был уязвлён Каллимах.
Однако оранжевому поэтическому великолепию не удаётся полностью поглотить жёлтую прозаическую струю: «Наступала промозглая львовская осень. Пересекая площадь, он решил спуститься в туалет под ратушей – впрок помочиться». В туалет спускается не Каллимах, а автор – в двадцатом веке. Но и средневековый поэт не желает отстать от своего создателя и «под градом капель», посреди «беззвучного замедленного листопада» мочится «в лужу, так что по поверхности её пошли пузыри и желтоватая грязная пена». Не осуждая ни героя, ни автора – дело-то естественное, необходимое! – заметим, что вторая повесть так же густо населена метафорами, как и первая. Причем почти все они органического, растительно-животного происхождения. Например, «секретарша, томящаяся как морковь в темнице» или «морда троллейбуса как у старого карпа». Понятно, что секретарша и троллейбус – приметы Нового времени, в то время как мужественный пятнадцатый век, похоже, не особо нуждается в постмодернистских метафорических украшательствах Игоря Клеха. Их и нет, кроме разве что филолого-географической «дикой овиди Причерноморья» и земли, что была «как рассохшаяся местами палуба над бездной». А может быть, увлекшись приключениями поэта Каллимаха (очень живыми по контрасту с умозрительными построениями автора), мы просто перестали замечать метафоры?
Но не будем тратить драгоценное время: впереди ещё пять цветов радужного спектра и в виде приза – роскошный, длиннохвостый, фиолетовый фазан. А пока – повесть третья. Цвет жёлтый. Желание. «Частичный человек, или записки сорокалетнего». Наиболее постмодернистская и оттого, на мой вкус, самая скучная и композиционно развинченная повесть, состоящая из восемнадцати практически не связанных между собой и очень разных по объёму и содержанию главок с названиями и без. Жёлтый цвет заявлен в конце занимающей полстраницы первой главы: «Как тонкий свет, идущий из-под двери». Определённая желтизна просматривается и в публицистическом пафосе почти всех разделов. Например, вторая глава носит длинное название «О конфетах из г…на (здесь и далее купюры мои), трибунах и прапорах, или о существе и опорах тоталитаризма». Чучелом проклятого советского прошлого, изрядно пожелтевшим за последние тридцать лет, автор пугает читателя на протяжении всех сорока четырёх страниц повести, ненадолго отвлекаясь на Гоголя, Булгакова, Мандельштама, Сэлинджера, Троцкого, Наполеона, а также Лесю Украинку, Ивана Франко, Элиота и Эзру Паунда. Последняя четвёрка элегантно уложена автором в одну строку: «Это он когда-то вынул у этих из рук Лесю Украинку и Ивана Франко и вложил Элиота и Эзру Паунда». Не очень понятно, кто такие выделенные зловещим курсивом эти, но таинственность, по-видимому, призвана испугать дополнительно.
Однако читателям не страшно. По крайней мере, тем, кто вместе с автором пережил ужасы принудительного бесплатного здравоохранения (благодаря которому, наверное, удалось и выжить, и пережить) и всеобщего среднего образования (на Украине действительно включавшего Ивана Франко и Лесю Украинку). Может быть, потому и не страшно, что самый действенный, а возможно, единственно доступный Игорю Клеху способ борьбы с тоталитаризмом – использование обсценной лексики. Не будем спорить со специалистом, отметим только, что для сей высокой цели привлекается и упомянутое «г…но», и «голож…пая страна», и уж совсем непечатные (на мой недемократический, замордованный советской цензурой взгляд) приводимые автором без купюр «б…», и «… твою мать!» Желание? Надо думать, окончательное освобождение от оков. Последняя «треть-страничная» главка «18.» завершается торжествующим кличем: «Ты – свободен!» Из «жёлтого» контекста выбиваются главы «7. Славянск I» и «17. Славянск II» со щемящим рассказом о детстве писателя и о его деде и, как следствие, невольным, ностальгическим признанием в любви к стране, канувшей в вечность и заклеймённой автором как «страна Доносов и Советов».
В отличие от двух предыдущих, эта повесть метафорически бедна, зато богата на прейскуранты советских столовок. Они выписаны подробно и любовно: «Алжирское – шестьдесят шесть копеек. Столовое европейское – семьдесят семь. 50 г коньяка – 40 копеек, 7 копеек – кофе… Перцовка в пельменной 0,5 – 1.80...». Признанием в любви, письмом состарившейся Татьяны к покойнику Онегину читаются воспоминания об «остром привкусе вокзальных ресторанов», об открытой на углу «Кулинарии» с заварными пирожными и даже о «большой и безалаберной очереди» в «первом мясном» магазинчике у рынка. А ещё – телевизор «Темп» и «бюстик Сталина на письменном столе, между мраморной подножкой настольной лампы и баночкой с вишневым клеем».
Мне завидно: ни «Темпа», ни Иосифа Виссарионыча (даже в виде бюста) я не застала. За обильными возлияниями с заварными пирожными на закуску логично следует уже привычная, ставшая чем-то наподобие талисмана туалетная тема. В данном конкретном случае она сортирная, а если совсем точно – внесортирная: «…никакие силы не заставят тебя выйти и добежать до спрятанного в глубине сада в кустах сортира…» Нет, жителям «этой страны», развращённым дешёвой советской жратвой и питвом, никогда не стать цивилизованными европейцами! В повести «Хутор во Вселенной» сортирная тема получает высшее и даже блестящее развитие: «Столбик г…на подрос. В союзе с крепчающим морозцем ты выращивал какое-то подобие страза – или шпиля <…> Когда острие его достигнет очка, у тебя не будет другого выхода, кроме как сложить вещи и спуститься на дорогу». Хуторской сортир «очковой» конструкции проявляет «странную активность», особенно в отношении «русских пишущих» людей: «Прозаику сортир устраивал демонстрацию левитации, когда бумага, отправляемая в очко, упорно возвращалась и стояла, подрагивая, в метре над только что покинутым насестом, – и никакими пассами невозможно было загнать ее назад. Поэту – что-то другое».
Не смейтесь, читатель, и не спешите записать Игоря Клеха в одного из подражателей нашим прославленным постмодернистам-«экскремистам» (каковых мы не будем здесь называть, благо они и без нашей рекламы – на прилавках и на слуху). Повесть «Хутор во Вселенной» вовсе не об экскрементах, а об уединённом житье-бытье на хуторе, затерянном в зелёных сосново-еловых карпатских горах. О неспешном – тоже успокаивающего зелёного цвета – созерцании и о знании, приходящем в результате. Жаль только, что о хранителе этого потаённого, эзотерического знания Николе, леснике «на пензии», нам расскажут до обидного мало. Скудные сведения о Николе, вкраплённые в бесконечные интеллигентские рефлексии и не лишённые интереса наблюдения за медведями, овцами, дикими свиньями, псом Вовой, кошками вкупе с зачем-то приплетёнными к ним коктебельскими нырками, камнями, деревьями, закатами и прочими природными явлениями, – самое ценное в повести.
Но Игорь Клех лишь невзначай поведает, как «пацан-пастух» потерял пальцы, подобрав миниатюрную мину, оставленную на поле боя «какой-то из отступающих армий»: «…пальцы, повисшие на обрывках кожи, Никола отрубил и, скуля, не сказав ничего матери, забрался на печку». Как «в сорок пятом Николу посадили в теплушку и отвезли в Харьков – восстанавливать оборонный завод». Там он «увидел огромный, разворошенный войной мир», а в бараке, где жили рабочие, «втихую по ночам шил обувь – война всех разула». Через полгода затосковал и, «сев с пустыми руками в теплушку, поехал вслед заходящему солнцу, залез на гору», чтобы больше никогда с неё не слезать. Не будем пенять автору – наверное, он больше ничего не сумел вытянуть из своего неразговорчивого, похожего «иногда до полной иллюзии – на небритого Высоцкого» хозяина, домысливать же и придумывать в таких случаях – дело неблагодарное, а, может, и не очень честное.
Нехитрая инверсия в названии четвёртой повести «Зимания. Герма» даже неискушённым читателем легко расшифруется как «Зима в Германии». Эта европейская зима действительно окрашена в по-немецки сдержанные, холодные голубые тона и с немецким же прямодушием и буквализмом отве-чает на вопрос «где?» – в Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Берлине. В «берлинском Zoo» азиатского носорога «в бронированных доспехах с меховой оторочкой, с оттянутым весом спермы до колена мошной» и розовых фламинго поглотит, затмит «бассейн с млечно-голубым видением медуз». Но прекрасное виденье не спасает читателя от скуки. Неторопливым путешествием по Германии и немецкой Швейцарии вкупе с бесконечными рассуждениями о литературе утомлён и сам рассказчик: «Когда путешествуешь так долго, – сорок дней, по дню за год, – заговаривающаяся реальность начинает повторяться». И повторяться, и заговариваться… Так, рассказывая о докторе Штайнере, автор пугается собственного дерзкого полёта мысли: взамен деревянного, сгоревшего, «который строили Белый, Волошин и другие <…> нынешний бетонный Гетеанум и осуществлен по собственноручному макету вскоре почившего Учителя, так похожего на некоторых фотографиях на Андрея Платонова (господи, он-то здесь при чем?!» И действительно – не при чём! Так же, как и запертые в главе «9. Джойсовский день», «замечательный писатель нашего времени Виктор Похлёбкин», Шкловский, Ходасевич, Цветаева, Маяковский, Эйхенбаум, Парщиков, Бродский, Айги и «Крупская с вытаращенными глазами». Поэтому мы с радостью сядем, наконец, в «чешский поезд с открученными, снятыми кранами в туалетах» – домой! «Вспять» – назовёт процесс возвращения автор в двенадцатой, завершающей главе.
Вы тоже обрадовались, читатель? Не тут-то было! В следующей повести «Крокодилы не видят снов» мы снова окажемся в Германии, но на этот раз не будем скакать по городам и весям, а осядем вместе с писателем в Берлине, в доме некоего учителя, родом баварца. Вслед за крокодилами мы можем погрузиться на дно, в тёмно-синюю усыпляющую глубину, чтобы обозначить шестую повесть как «сонное сидение в синеве». А можем иной раз вынырнуть и поглядеть на небо, цвет которого «напоминал забытое название краски – «берлинская лазурь»». Старение героев от повести к повести, от цвета к цвету продолжается. Русский жилец, по прихоти автора названный Игреком: «…назовем его пока Икс, а лучше – Игрек», – человек немолодой, сорока с небольшим, и не очень понятно, почему автор отказывает ему в нормальном имени. Обыгрывание имени Игорь–Игрек настолько очевидно, шито такими ослепительно белыми нитками, что кажется излишним. Ведь и хозяин-немец, ровесник жильца, – отнюдь не Зет, а Герхард Цандер. И даже его дочь-первоклассница, на воспитание которой «целиком направлена» жизнь отца, – не Альфа или Омега, а Патриция Басс: «Он не чаял в ней души. Он поднимал ее утром, кормил, забирал из школы, делал с ней уроки, занимался музыкой и рисованием, смеялся, наставлял, ворковал, читал книжки перед сном, лежа с ней в постели». Да будет стыдно тому, кто вспомянет здесь набоковскую Лолиту! Вдовец Герхард Цандер – хороший отец. Он может показаться даже идеальным по контрасту с Игреком, в воспоминаниях которого «жизнь оказывалась выстелена трупами неосторожно прирученных им животных. И он не был пока уверен, одних ли только животных?» Может, потому и прячется за абстрактным Игреком герой-рассказчик, что смерть живых, конкретных, поименованных тварей – чижика Петрухи и черепашки Фили – это выжженная часть души его детей? И как оправдаться? И перед кем? И надо ли?..
В этой повести автор напрочь забывает о туалетах. Быстро разрешившийся конфликт из-за ванны между хозяином и жильцом не в счёт. Эта повесть о семье: «…в нормальной семье каждый делает, что хочет». Простенькая догадка, почти трюизм, но как же рвёт душу! За неё любой (или, скорей, любая) ханжа простит автору рискованное анатомическое сравнение: «Сколько их (женщин), носящих твой член в своем сердце? Ну хорошо, не член, а образ, и не в целом сердце, а в одном из его желудочков и предсердий, внутренних карманов». Однако заканчивается эта отличная повесть, на мой взгляд, нелепо: «Боже, какой ты тупой! – сказал он (Игрек) вдруг, распрямляясь. – Это же не его дочь!..» Если бы это имело какое-то значение, мы давно догадались бы – не тупые! – по услужливо представленным в самом начале повести фамилиям дочери и её не биологического, но, безусловно, настоящего, потому что любящего отца. Возможно, автор просто не знал, чем закончить не немецкую, а русскую историю распадающихся семей? Не будем же ставить Игорю Клеху в вину странную концовку печальной и до сердечной боли пронзительной повести. И такой конец имеет право на существование.
Но может, вот такой был бы не хуже: «Когда уходил в последний раз, чтобы уже не вернуться, – сбегал на кухню и утащил со стола, сколько смог унести во все еще маленьком кулачке, пригоршню нашинкованной свежей капусты – дал ему с собой. Отец так и унес ее – в кулаке…»
Согласно принятой нами схеме последняя повесть «Смерть лесничего» должна быть окрашена в фиолетовый цвет и посвящена старости. Фиолетовый цвет, читаем в Интернете, «представляет собой сокрытую тайну…» Можно ли надеяться, что мудрый старый лесничий, дядя героя-рассказчика Юрьева, поможет нам проникнуть в «сокрытую тайну» и подскажет местонахождение вожделенного фазана?
Увы! Полагаться на дядю не приходится: «…уже сидя в поезде, Юрьев понял, что дядя остро нуждался в его помощи… Дяде его хотелось не рассказать что-то, что он знал, но, наоборот, самому узнать, что именно он знает…» Возможно, именно в связи с преклонным возрастом героев (Юрьев, конечно, не столь стар, как его дядя, но тоже далеко не юноша) процесс мочеиспускания приобретает особую актуальность, и прерванная было в «Крокодилах» туалетная тема спешит навёрстать упущенное: «…официантка отвела жену Юрьева в туалет для персонала, единственный во всем заведении покуда еще действующий. Рассчитавшись, Юрьев спустился вниз и дожидался снаружи, где также, зайдя за угол, легко справился со ставшей нестерпимой от холода нуждой без посторонней помощи». – «А вот и нет! – возразим мы Юрьеву. – Неправдочка ваша! Без нашей, читательской помощи вам с «этим» ну никак не справиться!»
Цвет повести, если и фиолетовый, то с большой натяжкой. Но вот наступают сумерки: «…по дну долины уже начинали ползти разведенные чернильные тени… Перекрасив снег, они принялись карабкаться по стенам…» Повесть постепенно окрашивается, как мы и предполагали, в фиолетовые тона, но тут Юрьев в самый неподходящий момент зачем-то признаётся, что стал «вынужденным дальтоником»: «…по мере нарастания усталости от жизни постепенно блекнет радужка глаз». Тем не менее, за неимением другой версии будем считать, что повесть «Смерть лесничего» – цвета фиолетовых чернил, потому что Мария Богуславская, дебильная ученица Юрьева – «заторможенная, стеснительная, с опущенным ускользающим взглядом, ровно, как тень, переползающим по предметам», – в далёких семидесятых, в Богом забытом «селе подо Львовом, где Юрьев очутился по распределению после университета» ещё вполне могла писать сочинения не шариковой, а чернильной авторучкой. А то и просто перьевой – макая стальное перо в чернильницу и ставя кляксы на сочинение по «Грозе» Островского: «угарному потоку сознания». Учитель потрясён: «Какие Беккет с Джойсом?! – ни одному модернисту в литературе такое ионеско даже не снилось <…> её письмо заголяло стилизаторский характер фолкнеровского повествования в лучшей части лучшего из его романов…» «Не здесь ли зарыт, простите, сидит искомый фазан – «гений искусства прозы»?!» – возликует иной простодушный читатель. Ох, не знаю, не знаю… «Божественный первоисточник» (то бишь первое со-чинение Марии) утерян, а два последующих, предъявленных читателю «ма-русиных» текста не поражают ни гениальностью, ни даже безграмотностью.
Как-то не получается согласиться с автором, что «Маруся теперь завалила реализм как таковой, вогнав в его домовину осиновый кол». Современный читатель не усмотрит в нём ничего особенного (рядовое, быть может, даже не самое плохое минисочинение из теста нынешнего ЕГЭ), но учитель Юрьев в 1975 году продолжает «потрясаться»: «Хозяйской, не ведающей сомнений рукой она перекроила сюжет «Отцов и детей». Главной героиней его становилась социально близкая ей Фенечка... Какой к лешему Павел Петрович Кирсанов, какая Одинцова, какие нигилисты?!» Продолжим ряд: «Какой к лешему «сорокалетний плотник Иван, пришедший в село на заработки», называющий себя «князь Щек» и ставший мужем пятнадцатилетней дебильной девочки?!» Хорошо хоть, что у автора, подробно описывающего рождественский вертеп с Иосифом и Марией, «нечаянно увиденный из окна рейсового автобуса», и вообще много рассуждающего на «богородичную» тему, хватило вкуса не назвать плотника Иосифом! Однако он чувствует, что и с Иваном хватил лишку, и спешит оправдаться: «…от узнанного у Юрьева голова пошла кругом: несовершеннолетняя Мария и плотник, приходящий издалека, спустившийся с гор, чтоб взять ее в жены, дебилка и «князь»...» Не тот ли случай, когда оправдание хуже преступления?
А у читателя, между прочим, тоже есть голова, и от подобных аналогий (хочется верить, не намеренно кощунственных, а скажем… неудачных) голове ничего другого и не остаётся как «пойти кругом». Дальнейшая судьба Марии легко угадывается. Плотник забирает её к себе на гору – ох и любят сидеть по индивидуальным горам эти западные украинцы! – с непременным условием, чтобы она родила ему сына. Сын рождается и быстро умирает, причём, как подозревает милиция и понятые, «не без помощи родителя». Иосиф и Ирод в одном лице, объединённые заглавной буквой имени Иван? Вот где пригодился бы Игрек из «Крокодилов»! Ирод же – не к ночи будь помянут! – в «Смерти лесничего» поминается достаточно часто, как и многие другие евангельские персонажи, чем донага (что даже для постмодернизма чересчур!) «обнажает приём» и наводит на грустные размышления.
Неужели законы постмодернизма так жестоки и неотвратимы, что, начав с детского заговаривания без запятых и лёгкой, «детской» же эротики, с повышенного интереса к дефекации и непременного лягания «совка», автор против своей воли обязательно придёт к «пляскам в церкви»? В данном случае не на солее храма Христа Спасителя, а вокруг католических или униатских, «нередких здесь придорожных часовенок Божьей Матери», что мне, православной, поверьте, нисколько не милее…
Автор то-же чувствует потребность в оправдании: ««Какой бред!» – подумалось Юрьеву». И с этим утверждением нельзя не согласиться, но достигнутое, наконец, понимание между автором и читателем не принесёт удовлетворения последнему, потому что мы, похоже, не нашли того, что искали, и вряд ли уже найдём.
А кстати, чего искали-то? Смутно подозреваю, что меня, наивную русскую тётку, попросту обвёл вокруг пальца умненький «западенский» мальчик, и никакого фазана в результате прочтения повести не предполагалось. А уж искать фазана в рассказе «Псы Полесья», «отмеченном в 2000 г. премией Ю. Казакова за лучший русский рассказ года», по-видимому, тем более не следует. Но поговорить об этом рассказе стоит хотя бы потому, что в «Псах», как, впрочем, и почти во всех обсуждаемых повестях Игоря Клеха, за исключением «Частичного человека», отсутствует обсценная лексика. Не исключено, однако, что этим мы обязаны дочке героя-рассказчика: «если б не сидевшая впереди Дочь, он матерился бы уже в полный голос». За то, что всё-таки не матерился, и автору, и Дочке, как теперь принято говорить, наш отдельный «респект и уважуха». Всё же, несмотря на присутствие Дочери, автор не может обойтись без мотива мочеиспускания, что проходит красной (или жёлтой?) нитью через все, кроме одной, повести и «примыкающий к ним рассказ». Пожалуй, только этой темой рассказ связан с остальными произведениями сборника. Другой причины для «примыкания» не усматривается.
В «Псах Полесья» описан байдарочный поход Вольноотпущенного, его Дочки, Капитана и Судового Врача по чернобыльским территориям – реке Припяти и её притокам. Выбравшийся из палатки Капитан «в одних ботинках на босу ногу и наброшенной штормовке» облегчается у куста и только потом заводит разговор с товарищем. Вспоминается в этой связи давний эпизод из школьной жизни. Третий класс. Вовочка хихикает над поднявшим руку – «Можно выйти?» – одноклассником. «Не понимаю, что тебя рассмешило, Володя, – серьёзно говорит учительница. – Разве ты не человек и не пользуешься туалетом?» Вот и мы никак не могли заподозрить, что Капитан представляет внеземную цивилизацию и «облегчается» особым, отличным от человеческого (и животного) способом, нуждающимся, следовательно, в специальном упоминании.
По-видимому, неписаные законы постмодернизма столь настоятельно требуют «низа», что автор, возможно, и рад бы, да не в силах побороть свою законопослушную, филологическую натуру. И потому вынуждает героя прихватить в байдарку «тоненькую книжечку об уретреальной эротике, чтоб попытаться разобраться в природе своей тяги к плаваниям». А абзацем выше приведено «воспоминание по невольной связи ассоциаций» о том, как одна из подружек Вольноотпущенного приняла близко к сердцу «кем-то рассказанную ей историю о древней старухе, впервые в жизни вдруг испытавшей оргазм с неразборчивым солдатом», и здесь же – рассуждения о «плаваниях по не очень трудным речкам», являющихся ничем иным «как инфантильным желанием напрудить в постель».
Всё это очень мило, но рассказ, конечно же, о другом. О «псах Полесья» – вечно бездомных людях, по-детски надеющихся, что уж за этой-то речной излучиной, хоть за этим поворотом, наконец, что-то блеснёт. Самые отчаянные, оставив какое-никакое, ни шатко ни валко обустроенное жильё, подобно деревенскому псу бросаются в неверные воды и плывут неведомо куда и зачем. Впрочем, мы догадываемся зачем, потому как и сами такие. «Псы Полесья» тщетно стремятся изменить свою жизнь – не важно в лучшую или худшую сторону. Нам тоже пора отчаливать от прозы Игоря Клеха.
Оставим же автора и его героев в «бескрайних плавнях мегаполиса» и сделаем сдержанно оптимистический вывод: мы по-прежнему не знаем, где сидит фазан, этот заявленный в аннотации к книге «гений искусства прозы», и сознаемся, что местонахождение сей сказочной птицы, по-видимому, вовсе и не нашего ума дело.
|