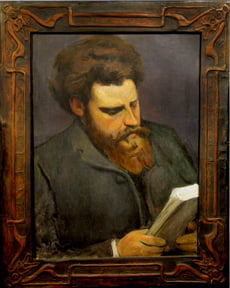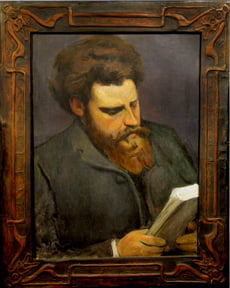ПАРАДИЗ
I. РЖАВЫЕ ПСЫ ИСЧЕЗНУВШИХ СЛЕЗ
Снился мне Парадиз. Снился Коктебель.
В подвенечном уборе цветущих персиков и абрикосов. Звезды на небе – древние, а не красные на дюрале летающих крепостей, звезды на море – глаза сирен и дельфинов, а не прожектора броненосцев, звезды сбитых цветов в луже после весеннего ливня, звезды на мачте ленивого парусника и на бархате крыльев павлиньего глаза.
В этом Парадизе мы втроем – отец, мать и я.
Каждую весну лопата переворачивает землю, безжалостно обнажает молочные корни сорных трав и змеистые подземные бело-розовые жилистые тела пырея, ядовитого и могущественного, как царь смерти и зачатия.
Каждую весну из земли вылезают ржавые гвозди сгоревших и исчезнувших домов. Одни из них такие старые, что крошатся в пальцах. Чтобы сломать другие, нужно слегка напрячься. Третьи, толстые и надежные, не трогает время. Слегка кривые или согнутые углом, они смотрят на меня обрубками железной змеи, которая прошивает иголкой дома. Дома исчезли, а гвозди сторожат место. Руину, погребальный холм, кладбищенскую грядку.
И ждут строителя. Красные, как проволока рыжей бороды скандинава-корсара, они смело торчат из земли, прокалывая резиновую подошву сапога и расшлепанную галошу. Гвозди напоминают о разрушенных домах. Гвозди – последние стражи домов. Гвозди – старые псы пропавших гнезд. Жалкие церберы былого счастья.
Пожар сожрал здания, время разметало останки, но гвозди остались. Алфавит давно исчезнувших книг. В земле они приобрели характер живых существ. И некоторые свернулись, как стальные змейки литерой G, другие замерли зигзагом Z, иных вода и ржавчина спаяли в любовном соитии W, которое легко нарушить, дернув за концы.
Иные гвозди раздвоились как буква Y, подобно хвосту таинственной короткой и толстой змеи, которая иногда греется на сыром пятачке желтого клевера возле бетонных обломков старого военного укрепления.
Латинский алфавит гвоздей ничем не отличается от славянской кириллицы. Я даже не скажу, каких ржавых литер в земле вы встретите больше: в каждой земле свои гвозди. И сырая земля Бургундии и Андалузии, Силезии и Далмации хранит свой алфавит. А сербские, украинские или уральские поля берегут ржавые литеры Кирилла и Мефодия. И тут, у двух стволов пышной облепихи и лиан лимонника на сетке-рабице кривые гвозди несут таинственные письмена, которые некому прочитать.
Арабский с его завитушками ржавые гвозди не любят. А вот иврит для них родной. Только тронь землю – каждый второй гвоздь отзовется из песка на языке хазар. Что за крымские татары? Это более позднее наслоение. Осколок тюрков, что-то вроде цыган. А золотое зерно – таинственные хазары, при помощи загадочной химии ставшие Бештом, Кафкой, Шагалом и Мандельштамом.
Однажды я надел старые разбитые кожаные отцовские туфли для двора со сбитыми каблуками и стоптанными задниками, которые крепки, как камень, взял острую, как алебарда, лопату и пошел на сырой мартовский огород. Я держал острый, как секира, треугольник стали на тонкой длинной рукояти. Такая алебарда входит в землю как масло – только поставь ее на грядку. Ее не нужно втыкать и нажимать ногой – только переворачивай ломти земли.
Собирать весенние гвозди интереснее, чем грибы. Грибы все одинаковые. А у гвоздя есть судьба. Его рассматриваешь и думаешь. И трудно бросить черный и багровый, обгрызенный временем гвоздь в сторону. Это то же самое, что прошмыгнуть, воровато пряча глаза, мимо нищего.
Захотелось разогнуть спину. И я присел на корточках возле брошенных старых гвоздей. Эти железные червяки из грядки под яблоней-каштелей не были похожи ни на латинский, ни на русский шрифт. Это был греческий алфавит. Греки будут постарше римлян, славян и крымчаков. Крым с Понтом они облазили раньше всех. И то, что я, наконец, встретил ржавые гвозди их алфавита, толкнулось мне в сердце веселым щенком радости.
Тут было много всего: λ, ν, χ, ζ, μ, ι, ε, ξ, β, υ – в разных сочетаниях. Литер ζ было три, υ – целых пять, ν – две, как и – ξ. Я вернулся к позеленевшей медной пряжке от женского башмачка. Не русская Ф, а греческая буква θ – вот что такое была эта пряжка.
И я задумался о таинственном и молчаливом алфавите вещей, который у нас в Европе куда как прост. Двадцать четыре литеры греческого письма, двадцать шесть латинского и тридцать три буквы славянского алфавита – такое небогатое письмо вполне по силам ржавым гвоздям. А есть еще грузинский язык – тридцать три литеры от ан до хаэ и арабская вязь двадцати восьми литер от алиф до йа. И эти замысловатые начертания и игра форм гвоздей куда интереснее. Не говоря о суровом великом оружии от алэф до тав. Но мы не читаем слов Востока.
Гвозди что-то говорили мне на греческом языке, они складывались в восклицания ужаса или триумфа. Но темен был смысл. И все-таки на этот раз я преодолел равнодушие. И зарисовал одно слово, глядя на ржавую строку на земле.
ε λ ι ξ
А потом отряхнул руки и пошел в дом.
– Проголодался? – спросила мать. – Возьми парного молока – молочник Васил принес. Я тебе уже налила. И мед, мед бери.
Отец в кабинете обернулся с легким удивлением, глядя, как я шарю по полкам.
– Что ищешь?
– Греческий словарь.
Отец мой тихо засмеялся,
– Это ты так копаешь грядку? – посмотрел он на меня веселыми глазами.
– Видишь, какой у тебя огород – мечта философа. Весенняя грядка пахнет Гомером, – ответил я, довольный, что порадовал отца в его одиноком кабинете с книгами до потолка, в который через окошко смотрела старая груша бэра и улица с очень редкими прохожими. На этой улице живут одни старики. Последние старики.
Я взял классический словарь А.Д. Вейсмана, ординарного профессора Императорского Санкт-Петербургского историко-филологического института, удостоенный Большой Петровской премии в давние времена.
Витой, кривой, криворогий – разъяснил слово греческий словарь. И далее… Свиток. Сверток. Извилина (кольца змеи, изломанная линия молнии). Спираль. Круг. Запястье. Спиралеобразная застежка. Плющ. В одном слове вся суть мира. Соль человечества. Хребет цивилизации. Огонь языка. Улыбка Бога. Одно слово – на всю оставшуюся жизнь.
Я начну с греческих букв – и разгадаю Коктебель. И страну Крым.
У гвоздей павших дворцов и лачуг много тайных слов. Гнилые гвозди молча и терпеливо пишут на черных листах земли свои книги. Их читают красные корни кустов, влажные языки дождя, иногда жестокая лопата. Гвозди, скрежеща, произносят свои максимы, но люди равнодушны к речам одиноких псов исчезнувших семей и упавшего рая.
Греческое слово гвоздей меня восхитило своей загадкой. Но когда я пришел с толстым серым словарем к ржавому слову исковерканного и выброшенного металла – на сухой полянке уже ничего не было. Гвозди исчезли.
Никто не сказал, куда они делись. Мать сказала, что не заходила на огород. Отец – тем более, не выходя из кабинета. Кому понадобилось стащить гнилые гвозди с огорода, огражденного металлической сеткой со стороны кур соседей и забором со стороны улицы – не знаю. Скворцы также не замечены в воровстве гвоздей. Разве что сороки? Сороки или желтоклювые вороны, которые входят вразвалку, как медведь, утащили в свои гнезда греческие слова. Или гвозди сами решили спрятаться опять в землю.
А я подумал о своем возрасте. И об извозчиках, которые всюду довезут. Но надо спешить. Может, Крым обернется египетской или китайской грядкой? Хорошо бы покопаться на китайском огороде и найти там гвозди исчезнувших дворцов империй Хань и Тан. Какой громадный и таинственный словарь скрывает земля Поднебесной. И он ждет меня, как формула любви, как пес страны высохших слез, мой ржавый иероглиф. В земле провинции Хубэй, где я уже бывал проездом, в Троеградье, у Башни Желтого Журавля, на краю рощи зеленого и пестрого бамбука, у корней могучего гинкго. Хотя Восток давно научился строить дома без гвоздей, а, значит, и без иероглифов в земле.
Но китайцы как-нибудь в другой раз, в иной жизни. Они в Крыму пока не ночевали. И я решил тут же, раз меня так ловко обманули греки, заняться ивритом. Пусть пошевелятся под землей хазары. Смогу ли я найти литеры своего имени --- Михаэль?
Гематрия моего имени проста – 101, кратко – 2. Приятные мне цифры. Но соберу ли я их? Пять литер. Мем, Йуд, Каф, Алэф, Ламед. Вряд ли найду алэф – сложно для гвоздя, да и мем. Алэф, алэф…Но и Йуд, простейший крючок, не шел в руку. Находить мелкие деньги во сне – к неудаче, а гвозди? Я суматошно ворошил землю, торопясь выхватить ржавое счастье.
– Ты собрал зимний чеснок? – аукнула с крыльца мать.
Чеснок, не собранный осенью, уже торчал проросшими стрелками. Я бросил розыск гвоздей и стал копать грязно-белые сырые головки, которые ершились вялой зеленью.
А сон уже заканчивался на донце глаза жемчужной каплей.
Снился мне Крым – и пропал. И Парадиз выпустил меня из объятий. Я уставился на стенку с батареей пыльных книг и обоями в виде желтого японского холста с пагодами и хижинами. Ржавые псы старых слез заскулили и поползли по щеке.
Почему я не остался в Парадизе? Я так и не нашел гвозди своего имени. Гвозди растаяли во сне. А куча грязного пахучего чеснока осталась. На табуретке с кожаным сиденьем у кровати, на которой лежал серый том дореволюционной «Библейской энциклопедии» и шариковая ручка на листе бумаге – старая привычка на ночь. Книжка была завалена чесноком. Такие у меня сны. Глубоко ныряю – и всегда что-нибудь остается.
II. ПОД ЗАПАХ РОЗМАРИНА
Такие цветные у меня сны – не открывать бы глаз. Но открыл – в серенькой местности, в социуме, над которым никто не зажигает звезд. И содрогнулся всем существом. Сколько мне просыпаться тут?
И решил я, как маньяк, в Крым перебираться, в страну своих снов. Суматошно, размазав по щекам ржавые мокрые полосы, такой я человек. Тринадцатое или, там, четырнадцатое колено Израилево умножить. Ну, и пополоскать в соленой водичке бренные кости.
– Старичок, сколько можно жить на кладбище? – сказал я себе и похлопал по тонкой шее неврастеника и престарелого фантазера. – Пора возвратиться в вечно-юное детство.
Дух мой алкал соединиться с чем-нибудь стоящим помимо принадлежности к жителям вечно жующего, блеющего и сидящего в бульбе Минска.
Но никаких путных колен кроме жирноватых и кривоватых коленок прекрасной половины прелестного хлева из облупленного окошка моей квартирки в микрорайоне Уручье не просматривалось. Все драгоценное и вечное со своими мафусаиловыми летами, бородами Моше и Аарона и святостью Бешта и последних цадиков, было деловито уложено нацистами разных мастей в черные ямы в первой половине ХХ века. Все оставшееся дотерпело прошлый век до конца и съехало от новых ям подальше в места несколько более обетованные, чем эта серая тундра, грезящая о тупиках цивилизации под флагами изъеденных книжными червями средневековых княжеств. Оставшиеся терпеть всю эту бодягу до очередного припадка строительства очередного Райха пребывали в нежном анабиозе народонаселения, щелкая по клаве и нервно вкушая некошерную самогонку английского и бобруйского производства.
Я посмотрел из пыльного окна своего панельного бункера чешского проекта.
За железными оранжевыми мусорными ящиками для сбора пустых ПЭТ-бутылок, скамейками с веселой после темных пастилок спайса молодью, желтым сосняком с толпами строителей-хрен-знает-что и пьющих бырло из горла, за обкуренным лесом, за которым резали правду-матку очереди крупнокалиберных пулеметов, и рвались фаустпатроны на стрельбищах Рогачевской дивизии, за падающими парашютистами аэроклуба в Боровой, за дворцами чиновников, окруженных десантниками и боевыми псами, за гарью асфальтового завода на счастье простой публике и руладами блудящих кошек для любителей бессонницы, за гуканьем весны при помощи общенародной матерщины, на которой говорит столица Бульбаланда, за всем этим железобетонным и безвкусным социумом, полагающим, что все это вкупе и есть центр Эуропы, сиял в разрывах дыма и копоти вечно-юный Крым.
Я вышел в Сеть – и недвижимость тут же кинулась мне на шею. Я определился, скачал и послал сыну проект своего бреда.
Дети страшно любили насмехаться над придумками никуда не годного в делах бытия родителя. Я годами получал советы по поводу своего общения с брыкающимся и жрущим вирусы компом – а воткнул ли я шнур в розетку, а нажал ли я кнопочку, а есть ли у меня мышь, а если оно не светится, то есть ли вапще электричество в Бульбаланде?
Ответ сына Андрея был моментален. Он изучил фотки и текст и написал:
Я в восторге. «Продается 2-х ком. Сарай». Абсолютно невнятный объект. Статус земли и строения непонятен. Год постройки, материал постройки непонятен. Плюс сейчас вообще все сделки в Крыму приостановлены, до формирования российского реестра. А там могут быть проблемы, очень много самозахватов земли татарами, спорных участков и т.п. Как и кто это будет решать – пока темное дело. Думаю, это дыра.
Но я не сдался. Мне нравился Сарай. На самом деле, он находился в частном секторе, который по местному звали так. Беленький двухэтажный блочный домик-кубик с кусочком земли и разваленным гаражом. С балкона – вид на сопку, до моря 700 метров. А газ из баллона мог пугать только москвича – я родился в доме с керосиновой лампой и прожил с ней все детство. И я замолотил по клаве.
Сын по старой привычке разбивал мои отцовские махабхараты на полезные тезисы и реагировал.
Чтобы смотреть не через розовые очки, надо туда ехать, в Крым. Не в сезон. Смотреть-щупать этот домик и округу. Смотреть-щупать это море в 700 м. Велика вероятность, что дом окажется развалюхой с клопами и неработающими коммуникациями. Рядом с домом свалка для мусора. Вода и электричество с перебоями. Вокруг живут люмпены-алкаши, недружественные гордые татары и бомжи. Летом еще пьяные отдыхающие все 4 месяца + насекомые. Солнцепек, пыль. Море будет 700 м через скалы. Пляж из камня будет в 5 км, рядом с кораблями, весь в мазуте и солярке. Весь забросан банками, стеклом, окурками и мусором. Там пляжи почти не убирают. Как-то так. А ты себе какой-то Лазурный Берег представляешь, с Рио-де-Жанейро. Знаешь поговорку: не проблема деньги, а проблема – мешок, куда их класть. Деньги отобьются/не отобьются, а выброшены зря/не зря. Купить что-то за 40К, что потом с трудом продать за 10К – лично мне было бы грустновато.
Я сел в плацкарт – и поехал в черноморскую дыру. С зеленым зимним чесноком с маминой грядки в бумажном мешке из-под сахара.
IIII. УМНЫЙ КАМЕНЬ
Вежливые люди с совершенно безобидными воронеными стволами уже не бродили, журналисты уже не выскакивали из-за угла, как Джеки-Потрошители с мохнатым микрофоном, но самооборона еще сверлила встречного-поперечного насквозь и желала увидеть документ из широких штанин, ну и агенты Антанты и соседней щирой страны с тризубом торчали из-под земли там-сям, как подснежники и крокусы, но я не обращал на экзотику внимания. Меня несло в Сарай.
Как я и думал, он оказался на горах, куда уступами уходили частные владенья, оплетенные виноградом и инжиром. В прошлый раз на улочках у моря я постоянно натыкался на дохлых и растоптанных машинами ежей. Но сейчас, похоже, ежи еще спали в норах.
Я плохо ориентируюсь на местности и тяжело дышал, когда увидел за забором свой дом-кубик. Он был точно таким, как на фото. Неброское постаревшее сооружение, плод небольших денег и фантазии, ограниченной куцым выбором стройматериалов эпохи раннего Брежнева.
Сердце мое заколотилось. Но я повернулся спиной и пошел вниз. Я отправился к морю.
Я решил побеждать скепсис сына практически. До моря оказалось чуть больше. 900 с лишним метров. Оно было противным, холодным и мрачным. В кайме прибоя плескалось много всякой дряни, на песке было выброшено еще больше. Жирные следы танкеров, сейнеров и прочих военных калош на воде наблюдались. Сказочная барабулька отсутствовала, как и жемчуг. Был песок, была грубая галька.
Боевых татар с пиками я не приметил – они жили выше в селах, километрах в десяти. Чайки и прочая крылатая публика по привычке держались подальше от людей – за сеткой, на заповедной территории, примыкающей к скалам. Лежаки и шезлонги находились под навесами, курились только мангалы, смуглые люди издалека звали одинокого путника зайти и расслабиться. Я прижимал руку к сердцу, кланялся и шел мимо. Это был пестрый ленивый городишко из тех провинциальных сокровищниц, в которых когда-то живали Гераклит, Гиппократ и Эмпедокл.
Привет, Сарай. И я толкнул ржавую калитку в клочьях мутно-белой эмали.
Она противно завизжала и распахнулась. Усадьба была не на запоре. Никакая тварь не кинулась мне под ноги. Глушь и запустение коснулись меня темным крылом. Это было сладко, но сердце екнуло. Ну, вот, дом заброшен, ищи хозяина неизвестно где. Хотя риэлтор сказал мне по телефону, что все под контролем и можно ехать. Но сам он жил в Симфе. Я стукнул кулаком в широкую дверь, выкрашенную в багрово-черный цвет. Долгое молчание.
Дверь внезапно распахнулась. В проеме стоял чернобородый остроносый старик со злыми глазами, скрестив руки на груди. Он странно согнулся, как будто его давил горб. Вдруг я понял, для чего он так жестко скрестил руки. Он удерживал себя за плечи, как волкодава на цепи. Иначе бы он прыгнул на меня. Хорошенькое начало.
– Ты что делаешь, шайтан? – спросил он свистяще с акцентом, которым киношники любят метить всех азиатов. – Это тебе барабан, да?
– Я по объявлению.
– Я не давал объявления разбивать дом.
– Сергей из Симфы сказал, что все нормально. Приезжай и смотри.
– Вот и смотри.
– Я посмотрел. Мне нравится. Хочу увидеть внутри и ударить по рукам.
Человек хмыкнул и лязгнул чем-то.
– Стой, где стоишь. Ты кого хочешь бить по рукам, чужак?
– Так говорят. Символически – в честь покупки.
– Зуб даю – ты не купишь.
– Давайте ваш зуб, – завопил я. – Я куплю. Я такой. Где зуб?
Он уставился на меня.
– Э-э, ты псих? Сбежал, стучишь, зуб просишь.
– Я поэт, – заверил я. – Правда, старый. Точнее, потрепанный.
– Что такое поэт? И стоит ли он зуба? Миром правят те, кто служит Творцу, и те, кто ему вредит. Ты кто?
Я полез в карман куртки и протянул ему темно-синий белорусский паспорт.
– Тут все написано.
Он презрительно отмахнулся.
– Мало ли что напишут. Сам себя как называешь? – он выпятил губу и сказал с угрозой. – Назовись. Если я назову тебя – будет хуже.
Проклятий я не боялся, я в них не верил. Но вспомнил несколько своих кличек и выбрал любимую, ту, которую придумал себе как alter ego:
– Шэн Ши. Умный Камень. По-китайски. А вас как?
Он не услышал моего вопроса о себе.
Хозяин впервые расслабился и едко засмеялся.
– Много хочешь. До камня тебе расти и расти.
Он стоял в дверном проеме, загораживая его и не желая впускать в дом. Я попал в лапы к представителю какого-то мелкого, но горделивого племени, и он желал достать меня по полной. Я поздно сообразил, что надо было выкрасить голову басмой и приклеить какие-нибудь усы. Почему я не явился сюда со своей квадратной белой бородой, которую не любит мой отец, не желая видеть сына стариком? Камню к лицу борода.
– Ну, расскажи что-нибудь, камень, – предложил хозяин. Он готов был рассмеяться или плюнуть в меня.
Что рассказать? У меня плохая память. Я не знаю своих стихов, а вот некоторые притчи помню. Через пень-колоду. Прозу легко можно переиначивать и дописывать по ходу дела. И я с легкой безуминкой подвыпившего начал.
IV. НОЖКА МОЛОДОЙ СЕРНЫ
Вот истязают человека.
Подхожу и спрашиваю:
– За что?
Но они увлечены работой.
– За что? – спрашиваю еще раз. И отступаю перед лоскутами свежей кожи.
Один из них небрежно роняет:
– За утерю.
– Но разве утеря не мала пред такой карой?
– И за кражу, – роняет второй, посыпая из пачки крупно солью.
– Но разве за кражу так карают?
Третий выпрямляется и трясет затекшей рукой:
– Он потерял веру и украл новую.
– Но может ли жить человек без веры? – спросил я их. – Да обретет страждущий утерянное!
– Наша вера теряется вместе с жизнью, – посмотрели они на меня.
– Вера – свет человеков. Он поступил правильно, – сказал я.
Тогда они отложили ножи, и человек с самими пустыми глазами и самой седой головой произнес:
– Вот еще один, который потерял душу. Он понимает этого человека и оправдывает его, ибо не верит сам.
И плеть обвила мою шею.
– Погодите! – крикнул я. – Я писец. Я напишу о краже веры. И все осудят его. И после каменьев, брошенных в него, больше возлюбят храмы – ваши храмы.
– Живи, – сказали они. И позвали к себе.
И я взял в руки нож. Писец и нож – братья.
О, нож, нож. На нем стоят боги, на нем стоят царства.
Перемена жизни – перемена ножа. Перемена смерти – перемена ножа. Оставишь тростниковый калам – возьмешь нож. Оставишь нож – возьмешь тростниковый калам. Но мне не до калама писца.
О, нож, нож. Я смотрю на острие. У этого ножа не острие – око моря. Клинок его – черный ветер. Слово, написанное на клинке, уста смерча.
Я такой писец. Я буду писать ножом. У меня много работы.
Зарезать себя. Зарезать чародеев. Выкопать клинком подземный ход из этой липкой, покрытой жирной кровью страны. Чтобы вывести оставшихся.
Что-нибудь из этого я успею сделать.
А пока моя ладонь привыкает к рукояти, сделанной из отрезанной мохнатой ножки молодой серны.
V. БИСМИЛЛАХ!
– Где нож? – быстро спросил темный хозяин. Он так и не назвал себя.
– Далеко, – ответил я гордо. – Это же притча. Зачем мне нож тут?
Я махнул рукой на зеленое весеннее захолустье, глушь и тишь которого не прерывали ни проезжающие машины, ни гвалт пустынного ныне пляжа.
Хозяин хмыкнул и подмигнул мне черным глазом – странный был это глаз, как дырка от бурава в известняке.
– Зачем нож, когда есть побольше ножа. Убить меня пришел? Стой, где стоишь! – крикнул он внезапно.
Паранойя жила в Сарае. Я помахал пустыми руками, но хозяин смотрел на меня с отвращением.
– Кого хочешь обмануть? Тут тебе нож не нужен! Тут – Рай, Парадиз, страна Офир, Эмпирей, Эдем? Так, умный камень?
Он зашелся в лающем смехе. Осведомленность диковатого туземца о местах весьма удаленных меня заинтриговала.
– Это же Сарай, – произнес я, вспомнив аргументацию сына. – Скромно и мило. Люблю простоту. Все мы – в одном сарае, только один на насесте выше, а другие ниже.
– Что ты знаешь о Сараях! – оборвал меня хозяин с гримасой. – Сарай-Бату, Сарай-Берке. А Сарай Тимура? Все столицы стали прахом, но мой сарайчик…
Он погрозил кому-то кулаком и покачал головой.
– Где эламы, парфяне, сасаниды? Где шахиншахи? Где Зороастр? Я хочу видеть Зороастра!
Что мне оставалось? Косить под дурака – чтобы не начать говорить о веревке в доме повешенного. Я стал ловить тощую и сонную весеннюю цикаду, поймал и помахал рукой перед хозяином:
– Не хотите? Вот, поймал Зороастра. Их тут у вас – на каждом шагу.
Но я не вызвал ответной улыбки.
– И вот такие ботаники без ножа в рукаве приходят купить мой дом! – взревел он вдруг.
Кто был сумасшедшим из нас двоих? Кто сбежал из дурдома и захватил эту блочную халупу? Прозорливость сына повергла меня в уныние – любой в этом заброшенном краю мог назваться хозяином и заморочить мою слабую голову.
– Думаешь, я не понял? – продолжил хозяин. – Ты вздумал меня напугать. Нож с рукояткой из копыта козы. Бисмиллах! Меня! Что еще расскажешь? – поинтересовался он.
– А смысл? – тупо парировал я. – Дети у елки рассказывают стишки, рассчитывая на подарок из мешка. Но тут я что-то подарка не чувствую.
– Такие камни пошли – бегут от первого препятствия, – покивал он головой. – Ты говори, давай. А решения принимать я буду. Но не дергайся. Стой, как столб. А лучше – брось подальше свою сумку. Ты в ней смерть принес?
Я тяжело вздохнул – подозрительность психа меня вгоняла в депрессию. Но бросать сумку не стал. Я привык цепляться правой рукой за ремень – типо пистолет-пулемет.
– Да, быть может, ты и сгодишься, – проговорил он, наконец. – Может быть. Ты кое-где был. Кое-что слышал. Кое-что запомнил. Может, ты заинтересуешь кого-нибудь из гостей? И они согласятся.
Он стоял, разговаривая сам с собой, и взвешивал на весах меня. Как куль с чечевицей. Затем поднял свои дырявые глаза, они пронизывали чернотой, но были почти нормальные. Даже тоскливые.
– Гости замучили. Идут и идут.
– Черти? – уточнил я живо. Я люблю читать эпические и жуткие истории о древних духах и прозу о волшебницах-лисицах Ляо Чжая. Не раз видел демонов, а чувствую их рядом с собой практически ежедневно. Мне ли не знать?
– Почему черти? Путники. Но устал я слушать и разгребать их истории…
Я не понял, что произошло. Хозяин в прыжке летел на меня.
Черные глаза его были во все лицо, клыки торчали наружу, а руки с длинными когтями он выставил перед собой, как вилы. Ледяной ужас окатил мою грудь. Но хозяин замер в воздухе – судорога пробежала по его бледной личине, и он аккуратно приземлился рядом. Мое оцепенение не прошло, как он рванул меня за плечо и резко толкнул в дверь.
Теперь по воздуху летел я. Через дверь. Как мешок с соломой.
Я уже мысленно отказался от этого дома, как вдруг оказался в нем. Что-то было ненормальное в этой акробатике – слишком ловкой была она. Я как будто прорвал оболочку какого-то прозрачного воздухоплавательного пузыря и оказался внутри.
– Поночуй, дорогой, а там и поговорим. И цветочки поливай – любишь флору и фауну? – произнес хозяин как-то тускло, разглядывая меня. – А сумочку свою злую ты так и не бросил. Вцепился, как клещ. Жаль-жаль. Но – твое счастье.
И он двинулся со двора скачками, подбрасывая ноги, как заяц.
Так я стал пленником Сарая.
Старая дачная мебель. Кухня с желтым чайником в черных крапинках горящего жира, ножи, брошенные на подоконнике, стол в темных затертых пятнах. Как будто-то поработал пульверизатором или поливал из лейки чем-то черным. На стенках – какие-то желтые обгрызенные грамоты в рамках и цветные обложки из журнала «Огонек» со счастливыми лицами населения исчезнувшей страны. Тут был Парадиз. Но не мой.
И цветочков я не приметил. Зато всю ночь хлопали двери, гремели окна, шевелился мрак. Кто-то постоянно падал на меня. И я отшвыривал мягких и тяжелых кукол. Я тер глаза и ждал рассвета. Электричество приказало долго жить. Гости шли через дом. Тут была калитка духов.
VI. ЗУБ НА ПРОЩАНЬЕ
Но меня не съели. Хозяин висел под потолком, прицепившись к светильнику на черном от мушиного кала кронштейне. Он изучал меня сверху, чтобы прыгнуть. Но не прыгал. Почмокал с сожалением и признался:
– Врешь, как гость, а ноздрями чувствую – живой. Жирная кровь. Соображаешь?
– Ну да. Жировые бляшки в крови. Забитые шлаками сосуды. Так и до оторванного тромба недалеко, – согласился я. – Жирная кровь тянет ею закусить? Спасибо. Учту.
Хозяин скорчился от судороги сарказма:
– Болван. Слишком живой. Дрова, а не человек. Что ты понимаешь в хорошей кухне? – он дернулся и протянул в мою сторону обезьяньи руки, на которых когти закручивались желтой стружкой. И отдернул.
Но эти упражнения меня уже не пугали. Я держал руку на ремне. Я не автоматчик, но с детских лет ношу сумки на плече. Сколько замшевых курток и новых джинсов протер я до дыр на боку и бедре болтающимися сумками. Но так и не перешел на рюкзаки или кейсы. А моя сумочка хозяина пугала.
– Хочу спросить, этот караван-сарай – на фига? – поинтересовался я. – Объявление о продаже – тухлое, фейк, приманка. Но дом – что такое? Зачем тут все топчутся? Некому прорубить окно на тот свет?
Хозяин смотрел в сторону. Там что-то совершалось. Его острые уши поднялись и встали двумя зенитными батареями.
– Имеющий глаза – слепой, имеющий уши – глухой. А у тебя, камень, ни глаз, ни ушей, – пробубнил на одной гнусавой струне колдун.– Парадиза захотелось, да? А это фаршированный червями и сороконожками трухлявый пень. Тут все изъедено жившими когда-то и живущими сейчас. Подними кору – и побегут, завихляют хвостами, заснуют. Да тут миллионы миллионов глаз глядят из всякой скалы, из каждого синего холма воздуха, пробитого насквозь. Вот, что такое всякая древность. Ты ее хотел?
Что-то стало происходить в пространстве. Чувства обманули, но потроха мои исполнились ужаса – страх уже который раз полоскал меня через пупок ледяной клизмой. Пространство схлопывалось.
Хозяин был готов, а я нет. Но мы оба увернулись.
Одним махом дом перевернулся и исчез. А нас вышвырнуло без всякого звона стекла и бомбардировки стульями и горшками. Дом просто выплюнул нас.
Не знаю, что было написано у меня на небритой и помятой физиономии, но козлиная рожа хозяина сияла. Как сияет раз в жизни даже самая исключительная дрянь.
– Вот и все, – с ликованием произнес он. – Воленс-ноленс, а я уволенс. И ты вывернулся, чума тебя бери с твоим белорусским паспортом. Надо же – темно-синего цвета. Как мундир судьи и прокурора. Я думал – провалишься с домом.
– Я не понял, – механически сообщил я, не успев проглотить шок.
– А как же, умные камни – они все такие, – сморщился в гармошку морщинами сухой физиономии хозяин. – Домик ты не раскусил, а он тебя – легко. Думал, ты выбираешь парадиз? Это парадиз выбирает. И пробует на зуб. Не домик – тихий хуторок. Сарайчик оссуариев – только и всего (1). Каждый приходит присмотреть за косточками. До конца света всем смотреть за имуществом. Такой уговор. А там… – хозяин с хрустом потянулся и оказался вдруг трехметрового роста. Но мигом сжался и передернул острыми плечами.
Меня фокусы уже не интересовали. Я хотел жрать. Я хотел унести ноги из этого шапито. От песчаного пустыря, который простирался на месте пропавшего дома.
– На – зуб, – произнес он равнодушно.
Хозяин полез в рот и вытащил оттуда длинный зуб. Зуб был наполовину черный, наполовину белый. Сухой и без единой капли крови. В торце его был узкий
…………………………………………………………………………………………..
(1) Оссуарий (от дат. ossuarium, погребальная урна) — небольшой каменный саркофаг для захоронения костей.
черный канал для мертвого нерва.
– Я тебе зуб давал, что ты не купишь. Ты и не купил.
Он засмеялся и вдруг замолчал.
– Благодари сумочку, – произнес хозяин с нежной ненавистью. – А то… Попробовал бы я литра четыре пьянящего напитка.
Личина его изменилась еще раз. На меня смотрел персонаж с орлиным взором холодных водянистых глаз. На нем была фуражка известного Reich-стиля, на который опять потихоньку равняется мир.
– Мы везде, – заверил он меня. – Наши бункеры и схроны наготове. В каждой горе. В каждой дюне.
Кто бы сомневался. Где Парадиз – там и вы, кивнул я.
Хозяин гордо приосанился и перешел на язык фельдфебелей и философов.
– Wohin reisen Sie? Sind Sie allein? Wo ist Ihr Gepäck? Machen Sie der Reisetasche auf! Machen Sie! Haben Sie Devisen? – заклекотал он. (1)
– Nein, ich habe keine Devisen, – ответил я на автомате. (2)
– Die Währung! – заржал он белозубым жеребцом СС и похлопал себя по боку. – Schwanz! (3)
– Verpiss dich! Mistkerl, – послал я его вслед. (4)
.…………………………………………………………………………………………
(1) Куда вы едете? Вы едете один? Где ваш багаж? Откройте дорожную сумку! У вас есть валюта? (нем.)
(2) У меня нет валюты (нем.).
Пора разобраться с сумкой, в которой жило чудовище, так замечательно (3) Валюта! Х*й! (нем.)
(4) Съ*бись! Мудак. (нем.)
Хозяин исчез, как ни бывало. Бритва Оккама мелькала в воздухе, как голодная сумасшедшая чайка. Пришла пора приканчивать все несущественное, пугавшее хозяина. Неужели туда залез черный крымский скорпион? И тут я нащупал забытый карман. Знакомый терпкий дух внезапно ударил в голодные ноздри. Меня затрясло от набежавшей тайфуном слюны и вожделения. В боковом кармашке притаился пакет с проросшим зимним чесноком. Я про него забыл, а то бы сожрал от голода. А хозяин о нем не забывал.
Я поцеловал черный карман. Он спас меня, утаив чесночок.
Дрожащей рукой я достал пакет чеснока и пугливо оглянулся. Как зэк. Рядом со мной никого не было. Сарай исчез. Хозяин исчез. Гости исчезли – утащили свой постоялый двор в другое место. Желудочные соки и высшие интенции вдруг взревели! Я сунул горькую траву в рот и мигом проглотил. После чего швырнул сухой длинный зуб на песок и бегом помчался с горы к морю.
VII. АЛФАВИТ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ
Билет назад я брал от Симфы и потащился мимо пансионатов к автобусу. Штудии с недвижимостью закончились. Коктебель был пустынен. Из ворот выглядывали хозяйки, призывая бредущего мимо охламона с тощей сумкой, в которой лежал в бумажном пакете из-под сахара зимний чеснок.
Снился мне Крым. Снился и в тот час, когда я бежал из Коктебеля.
Но я отрубил все мечты. Я хотел умотать от этого дырявого рокфора. Меня достала эта червивая древняя история. Я возвращался в хлев под названьем Минск для краткой остановки. Я знал, куда дальше направлю свое умеренное плоскостопие. В Харбине мне уже нашли местечко в фирме, где нужны жестянщики по клепанию рекламных слоганов. Я был там десять лет назад –
Пекин, Ухань, Шанхай. После крымского парадиза интересно столкнуться с китайскими гуями – духами, классификация их у китайцев просто немыслимая.
Я стал рассматривать соседей. В центре композиции был моряк с черными усами, грубое лицо, задумчивые глаза. Должно быть, при деньгах. К нему, как мухи, липли женщины. Одна – драная, но элегантная кошка. Другая – буйство плоти, с загорелыми булками, которые вываливаются из короткого платья, облепила моряка, как горячая сырая отмель, повторяя чувственным контуром все особенности его профиля – начиная с плеча, руку, бок, бедро.
Треугольник понятен. Моряк будет жить со своей замечательной вечно сырой глиной, которая ему под стать, а гулять с дрянной кошкой с замашками французской стервы, соской и истеричкой.
Но душа моряка смотрела на море.
Море – рядом, за стеклом, за горами, за пробегающими мимо рощами, татарскими селами с мечетями. А напротив моряка – подсолнушек, золотистая девчонка с простодушной фиалкой в каштановых кудрях. Простенькая красота с огромными невинными глазами, которую хочется гладить по руке и плакать. Но ему не вырваться. Он уже попал в бабский бермудский треугольник. И сейчас убивал в себе порыв красоты, основательно, по-мужски. Как убивают прицепившуюся и отчаянно бьющую крылами птицу. Ведь он не навсегда моряк. В моряках останется его вечно одинокая и голодная душа, перед которой скоро разольется белое море русской водки.
Я прислонился к стеклу. Моя голова моталась. А в голове метался мокрый голыш одинокой мысли. Мне было жаль этого несчастного моряка, жаль всех мужиков, чья жизнь только вопль о свободе. Отойдешь от людей – наваливаются мертвецы и черти. Но и с людьми вкупе – горе горькое и прокисшая оторопь людоедской тоски.
Я отвернулся и стал на прощанье глядеть на весенний Крым и страдать, что вот и не покопался в земле, не нашел гвозди. Не поискал алфавит хазар.
Гематрия моего имени элементарна – 101, кратко – 2. Так прост в цифири великий архангел престола Б-га. Приятные мне цифры. Пять литер. Мем, Йуд, Каф, Алэф, Ламед. А я не ударил пальцем, чтобы порыться в крымской земле. Вполне мог бы найти все, кроме Алэфа. Крым летел мимо. А с ним и мое ржавое счастье.
Тяжелая рука легла на мое плечо. Меня пасли не только вурдалаки.
Я поднял глаза. На меня глядел моряк с черными усами.
– Руку, – потребовал он. – Держи краба.
Я думал, что он хочет поздороваться. А моряк перевернул мою ладонь плашмя и высыпал ржавые гвозди.
– Не там ищешь, старик, не там, – произнес он отрывисто. – Это гвозди из корабельного днища. Пошурши мозгом. Гвозди не на грядках, а в досках бригов и каравелл.
Я не успел связать ни одного слова. Вурдалаки прилипчивы и говорливы. А внезапные высокие гости – на два слова. Если вообще скажут что-нибудь. Я уже встречал их. И всегда было так. Молчаливые встречи – и кинжальная помощь. Свалились на голову. Спасли. Исчезли. Этот же, снисходя к моей глупости, бросил мне пару слов.
Автобус остановился. Моряк выскочил первым. А за ним вдруг, как подхваченная ветерком, выпорхнула и девчонка с фиалкой. Куча брошенных теток взвыла, колотя кулаками в стекло. Но автобус уже летел к Симфе.
Я разложил пальцем рыжий алфавит на ладони.
Все тут. Мем, Йуд, Каф, Алэф, Ламед.
Ми-ха-эль.
Мальчиком я был мудрее, я знал, где мое счастье. На дне огромной лазурной слезы, которую зовут Океаном. Моряк только напомнил мне о моем детстве. Когда я знал все языки, как знает все молнии неба громоотвод, но забыл. И пришел, безъязыкий, к грязной луже Черного моря, потому что некуда больше – оно калитка в Океан. Калитка к Отцу.
Океан говорит на иврите. Океан, как младенец, говорит на всех языках. И выносит в подарок танцующие гвозди – ржавых псов старых дорог.
|