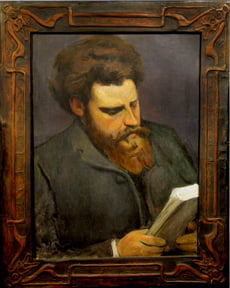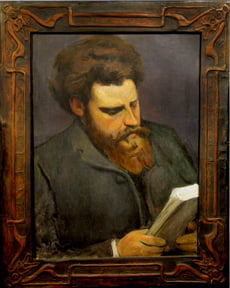Если бы знать это прежде.
…Узкий галечный пляж, мшистый прямоугольник пирса. Сфинксы рыбаков. И крокодилья спина мыса, замыкающего залив. А между ними – бесконечные повторения волн. Всегдашнее возвращение моря, его дыхание. Вдох-выдох. Снова и снова.
Старуха приходила сюда одна встречать октябрьские рассветы. В стоптанных кроссовках и с подвернутыми, как в семидесятые, манжетами на джинсах. Стелила на камни пеструю шерстяную кофту, складывалась на ней кузнечиком, коленями вверх. Отвинчивала пробку пластиковой бутылки и, неловко прикладываясь к горлышку, цедила красное сухое на разлив, из магазинчика по дороге. Потом погружалась долгим взглядом в горизонт. Чему-то улыбалась, клином вогнав острый подбородок в колени. Ожидала солнце. Когда оно выползало из-за надгробия пирса, утолщала оборотами джинсовые манжеты и, выпростав босые ступни из прелого плена, погружала их в воду. Разглядывала в холодной прозрачности свои костлявые пальцы, недоумевала – искаженные артритом, преломленные водой: мои ли?
Море жило своей жизнью: редким крабиком, шепотом галечной россыпи. В мерном дыхании прибоя самоцветы камней передвигались веселыми жучками, карабкались друг на друга и снова расползались, манили зачерпнуть их горстью, просушить на солнце. Старуха выбирала несколько, поярче, и держала на ладони, чтобы разоблачить их вечное лукавство: без воды они тусклели, плосковели. Разноцветные жучки умирали, превращаясь в истертый ногами дорожный гравий. Ее трогала такая преданность морю – и она возвращала их воде: живите дальше.
Если бы она знала это прежде. Что повторяются события, что возвращаются люди. Как волны, приходят похожие обстоятельства, и появляется шанс все исправить. Все вернуть, снова стать счастливой. Успеть на поезд, стучащий к югу.
Солнечные лучи согревали рыбу, которая жила внутри. И глотки вина ее усмиряли. Старуха зачерпывала воду пригоршней, умывалась. Становилось легче – море лечило.
Она не была стара, эта старуха. Всего шестьдесят шесть. Хотя порой ей казалось, что цифры кем-то перевернуты, ей давно девяносто девять. И она устала. Так долго бежала, увязая во влажной гальке, так поздно догадалась, что надо присесть в прибой и подождать еще одну волну. Похожую, следующую. Которая позволит все сделать правильно. Все успеть.
Это был их залив. Море их семьи. В эту воду она окунала своих малышей, на этом берегу Никитич – тогда еще просто Славик – строил с ними каменные города и песчаные крепости. Ее мальчики, ее Орлики, богатыри-пятиборцы. Этой галькой они, постарше, срезали водную гладь, считая «блинчики». С этого места старший разглядел спящего крокодила, с его тупым носом в мысе Ильи. Древняя крепостная стена надрежет на закате крокодиловую тушу ломаной вертикалью. А если выехать дальше, за город, то на крокодиловой спине вырастет белый гриб обсерватории. Как метастаз города – лишний, чужой.
Они с Никитичем всегда мечтали переехать сюда, к морю. Знали: продадут свою четырехкомнатную почти на Сумской, и хватит на хороший домик у этого залива. И будут жить старик со своею старухой у самого синего моря. Вот и живут.
Старуха хватает пальцами ног пучок водорослей – неудачно, заскорузлые ступни потеряли точность движения, окаменели. Тогда она зарывает их в мелкую гальку, в пенку прибоя. Замирает.
Ее воспоминания не тянутся кинематографической лентой, это слайды на беленной мелом стене. Можно найти между ними связь – логическую, причинно-следственную, а значит – пустую. Тогда зачем искать? Вдруг щелкнет вымерший в прошлом веке проектор, и перед глазами возникнет картинка. А потом случается этот фокус со временем, что-то вроде петли – и она окажется внутри слайда. Вчера она вычищала огород, выдернула куст томата – отслужил свое, спасибо – переломила пополам… Мощный запах помидорного стебля всплеснул, окатил – и она очутилась между трамвайными рельсами. Тонкие девичьи руки в цыпках, изгрызанные ногти. В ладонях – два пятака, серьезное пионерское богатство. Их безумно жаль, но признаться в этом нельзя, скажут – «зажала». Кто-то сзади кричит: «Ложи скорее, идёть!» Пальцы равняют пятаки на блестящей рельсовой параллельности, справа и слева. Глаз успевает порадоваться симметрии, а ноги уже перепрыгивают шпалы, несут ее в ближайшие кусты. Трамвай с земли огромен, страшен. Но не споткнулся о пятаки, гляди ты. И вот на ладонях две раскаленные лепешки – идеально круглые, удивительно тонкие. Сантиметров пять в диаметре. И совершенно бесполезные, минуту назад составлявшие огромную ценность…
Никитич позвал ее из раскрытого окна – окончился футбольный матч. В руках был сломанный куст без запаха, закатывалось солнце. А ладони медленно остывали после разогретой меди. Разве такое расскажешь? Старик и так жаловался старшему по скайпу: мать, мол, того. С головой плохо дружит. Старуха не обижалась: это было открытие, не доступное другим. Она разгадала суть времени, только и всего. Перестала бояться его, сумела понять.
А то все спешила, опаздывала. Всегда allegro. В дороге на работу знала точку, тополь, от которого, припустив, догоняла троллейбус на последней стометровке перед остановкой. И пятиборье Орликов, их вечный голод и английский, и четыре комнаты чистоты, и бесконечные отчеты в районной теплосети – все на ней, на ее ногах, в ее скорости. Быстрее, еще быстрее. Как Черная Королева – настолько быстро, чтобы обогнать время, обмануть его. Схитрить, будто вылетела из дому на десять минут раньше.
Этот залив творил с нею чудо. Она закапывала массивные наручные часы в чемоданных карманах и начинала жить по солнцу – восходами, зенитами. Проходила неделя, и взведенная внутри нее пружина постепенно расслаблялась. Растягивался день, и утренние события казались далекими, как случившееся в прошлом году. Она позволяла себе заниматься пустяками: смотреть на море, далеко заплывать. Разглядывать красивые ракушки, выискивать среди них «слезки». Старуха прикрыла глаза – под веками рассыпались затупленные прибоем стеклышки. Орлики любили их собирать, хранили в потертом игрушечном ведерке. Чаще всего попадались зеленые, всех оттенков – от раскрошенных на пляже пивных бутылок. Реже – белые, когда-то прозрачные, обточенные морем до матовой голубизны. Младший называл такие снежинками. Совсем редко попадались коричневые, старший именовал их гордо – янтарем. Это место дарило ей остановку, передышку: она входила в синхронию с Орликами, у которых от рассвета до заката проходит целая жизнь. Но приходил день, когда наручные часы впивались наручниками, и возобновляли диктат секундами – быстрее, еще быстрее.
Она тогда не догадывалась, что время не линейно. Казалось, не поторопится, что-то упустит – и не получит больше. Поезд умчится и растворится в темноте. Досадовала от спешки, даже плакала. Не понимала простого: время – море. Это одно. Едино. МОвРЕмя. Море. More. Время много больше, чем линейное измерение. Как море несравнимо больше своей береговой линии. More time. Много больше времени она бы имела, если бы присела на берегу, подождала. Столько десятилетий даже не предполагала, что не стоит бежать по кромке воды, судорожно поспевая за волной, хватать ее на вдохе, в надежде объять и присвоить. Надо всмотреться в морскую даль, увидеть тысячи, миллионы волн и волночек, завернутых в рулон горизонта. Сесть у воды, у границы. И дождаться нужной тебе, собственной волны. А когда ее объятия станут большими и смелыми, подчиниться. Довериться. Но помнить: волны повторимы. И шансы повторяемы.
Ноги озябли. Старуха продела их в рукава кофты – шерстяные чулки. Потянулась к бурой мочалке сухих водорослей, поднесла к лицу, втянула резкий йодный запах. Мелкие мошки вспылили возмущенным облаком, разнеслись ветром. Пляжик запаршивел в межсезонье: окурками, водорослевыми пятнами, конфетными обертками. В летние месяцы она подрабатывала здесь уборщицей, и два соседних пляжика – галечный и песчаный – знала досконально. Никитич ворчал над ее трудоустройством, убеждал в достаточности пенсии и недостойности такой работы. Она не возражала, но каждое утро, когда толстая рыба внутри тяжело поворачивалась и будила ее, с радостью убегала от неприятных ощущений на берег, к этому незатейливому собиранию. Пластиковые стаканчики и высохшие влажные салфетки, пивные бутылки и огрызки – иссохшие руки давно не ведали брезгливости. После шторма человеческий мусор становился незаметным, укрытый пластами морской травы, мумифицированных крабов, остекленевших медуз. Синусоиды водорослей – параллели водяной границы – отражали давешнее отступление растревоженной стихии. Она наполняла пахучими мочалами мешок за мешком, вызывая раздражение работодателя, молодого татарина Фахри:
- Где вы, Григорьевна, столько мусора набрали?
И теперь, покидая берег, она собирала встреченный по пути мусор, выносила в холщовой сумке подальше от воды, в ближайший бак. Это было ее море, берег ее дома. Она содержала их в чистоте.
…Солнце поднималось. Оно никуда не спешило, никогда не опаздывало. Глубина светлела, отодвигалась. Чуть окрепла волна, расшевелила зеленые водорослевые ленты, тянувшиеся из толщи воды вверх, к солнечному свету. Они мелко подрагивали, как темные полосы на боку того арбуза, что мыл тогда Славка под дворовой колонкой.
Она сдавала квартальный отчет и полугодовой. И не успела в тот вечер на поезд, в котором муж и Орлики, и лучшая подруга Светка с дочкой Машей уезжали на юг. А ночью проходили три московских поезда, но в пик сезона на них не купить билета. И худющий, трясущийся парень с сальной бородкой возле кассы предложил билет на один московский, но запросил в два раза больше. И она справедливо возмутилась, а нужная волна отхлынула. А потом четыре дня подряд торчала возле кассы, проклиная железную дорогу и свою скупость, и квартальный отчет, и полугодовой, и это роковое опоздание. И когда, наконец, получила вожделенный билет, и приехала на рассвете в Феодосию, то все никак не могла успокоиться, и говорила-рассказывала о своих вокзальных приключениях, и кипела, и пыхтела, и пропускала очевидное. И только спустя неделю как-то кольнула ее новость о том, что без нее все трое детей – ее Орлики и Маша – засыпали в большой комнате из двух снятых, под телевизором. А муж и подруга надолго засиживались на веранде под дегустацию сладковатых массандровских вин. И она вдруг представила их уединение в хмельной цикадной ночи, напряглась. Но отшатнулась, не поверила.
А потом Славка принес арбуз. Огромный, полосатый, килограммов на двенадцать. На всю компанию. Она отправилась в кухонные недра разыскать таз, достойный исполина. Муж принялся его мыть под дворовой колонкой, Светка вызвалась ему помочь. А она торопилась, грохотала посудой, выскочила из кухни и увидела их руки. Светкины, тонкопалые, нежные, терли арбузные бока, словно норовили смыть с них темно-зеленые полоски. Крепкие мужнины, в напряженных венах, с трудом удерживающие гиганта на весу. И подружкины пальчики вдруг, словно ненароком, коснулись его распластанной пятерни, и он вздрогнул, как от электрического тока. И выронил арбуз. Тот треснул пополам, переспевший, а она замерла, пораженная: что-то не так.
Старуха закрыла глаза и увидела, как вода стекает по арбузной глади, шевелит темно-зеленые ленты на его боках. Она потом не раз слышала этот хруст. Так ломалось линейное время, сухой веткой надвое – на до и после. И саднил после надлома какой-нибудь навязчивый эпизод из до, застрявшая в памяти беззаботная сценка, в которой поезд еще не умчал без нее в ночь, арбуз не узнал ненадежных человеческих рук.
И хрустнуло линейное время, когда ее Орлики – богатыри, пятиборцы – скрылись за поворотом зеленого коридора на рейс до Амстердама. Они погрузили на конвейер семейные чемоданы, черного и коричневого кожзама. В последний раз обернулись, выше толпы на голову, и широко помахали на прощанье. А в ее голове стоял треск сломанного времени, словно толстый деревянный сук разлетался – пополам, на до и после.
Они эмигрировали в Канаду, ее Орлики-погодки. Это было в девяносто восьмом, и это было общее, выстраданное, абсолютно разумное семейное решение. Потому что старший Орлик поставил компаньону по бизнесу богатый мраморный памятник на центральном городском кладбище. Потому что младшего Орлика повторно закодировали от алкоголизма.
Теперь они общались по скайпу. Раз в неделю, по воскресеньям, ровно в шесть. И внуки от старшего еще скучали перед экраном, тайком перемигиваясь за широкой отцовской спиной, а внуки от младшего, небрежно махнув далеким деду и бабке, сразу убегали, бойко щебеча на болезненно-чужом французском.
…Они продолжали встречаться, муж и лучшая подруга. Еще год. Она узнала об этом летом, когда черный и коричневый чемоданы уже разверзли рты в ожидании плавок, матросок и подводных масок. И сопоставила цепочку неприятных событий и мелких зудящих фактиков, которые однажды взроились черным мушиным облаком и зажужжали общим воем: виновен. Виновна. И эти две их вины никогда не воспринимались ею одним целым. Нет, виноват был каждый в отдельности – и муж, и подруга. И обиды ее были отдельны, несоотносимы, замкнуты в себе. Это были два разных вулкана…
Они остывали медленно. Через два года, когда он вернулся, кратеры уже припорошило пылью и песком. Казалось, они замерли молчаливыми ледяными глыбами, но остались в ней навсегда. И только теперь, когда ее окатило мощью верного понимания времени, стало ясно: их нет. Не потому, что время рассеяло вулканический пепел и сравняло с землей некогда грозные склоны.
А потому, что не случалось того прошлого, в котором они были.
Одна волна, чуть нахальнее остальных, добралась до пестрой старухиной подстилки. Она отодвинулась, кряхтя. Прищурилась на солнце: пора возвращаться. Ворчливый по утрам Никитич уже встал, дожидается. Хотя спешить некуда – ее внутренние часы давно не стучат торопливым пульсом, а дышат мерным покоем: вдох-выдох. Это другая частота, ритм волны. Рыба присмирела, сжалась. Если повезет, то до вечера – а это целая вечность. Старуха научилась выдувать свой день как мыльный пузырь: чем медленнее и осторожнее дуть – тем больше шар и ярче радуга, спрятанная внутри.
…Рыбьи глаза омерзительны. Гладкие, скользкие, с белым шариком внутри. Эта рыба поселилась в ней в марте. Приснилось: она проглотила тухлую рыбину. Целиком. Вроде подошла к зеркалу и увидела свое отражение с нею, проглоченной, поперек живота. И лежит протухшая под ребрами, и хвостом подрагивает, и рот приоткрывает. И крупным белым глазом поводит – сантиметров пять в диаметре.
Никитич убедил ее с этим обследованием. Записал удобно, чтобы не ждать в очереди: на три пятнадцать пятницы. И когда молодой доктор с красным в прожилках носом запнулся, рыба встрепенулась:
- диффузные изменения в головке и теле поджелудочной железы. В хвосте…
Медсестра вопросительно приподняла ручку над заключением, замерла.
-…очаг неправильной формы… пять сантиметров в диаметре…
А потом еще анализы, и замкнутые капсулы томографов, и ужи фиброскопов. И много непривычных слов, вроде «неоперабельна», «отдаленные метастазы», «несвоевременная диагностика». И они с Никитичем ходили под руку, и слушали в разных кабинетах одинаковые слова: «к сожалению, поздно», «возможность упущена». И эти слова касались времени – линейного, конечно. Старуха слушала всех, кто говорил о ее болезни, и видела время их глазами. Оно было смотано в клубок. И этим вежливым докторам и сестрам было неловко, что их собственные клубки еще большие, плотные, а ее, старухин, почти окончен – протяни руку и ухватишь конец. И они жалели ее.
Ночами, когда рыба особенно докучала, она размышляла: откуда эта холоднокровная в ней? Что материализовалось под ребрами: ее тоска по Орликам? одиночество? многолетняя обида? Или это расплата за разгадку времени?
Порой хотелось представить, сколько у нее осталось дней и недель в общепринятом измерении. Вероятно, несколько месяцев. Вряд ли она еще увидит такую осень над вечным заливом – с косыми лучами и чайками, и буреющей к ноябрю крокодиловой спиной. Но теперь она знала, и это делало ее такой спокойно-счастливой. Знала, что у нее в распоряжении целое море. И приросшие к пирсу рыбаки привыкли к изваянию ветхой старухи на пустынном пляже. Та погружала неподвижный взгляд в прозрачную даль и чему-то улыбалась. Перед ней расстилалось море.
Море времени.
|